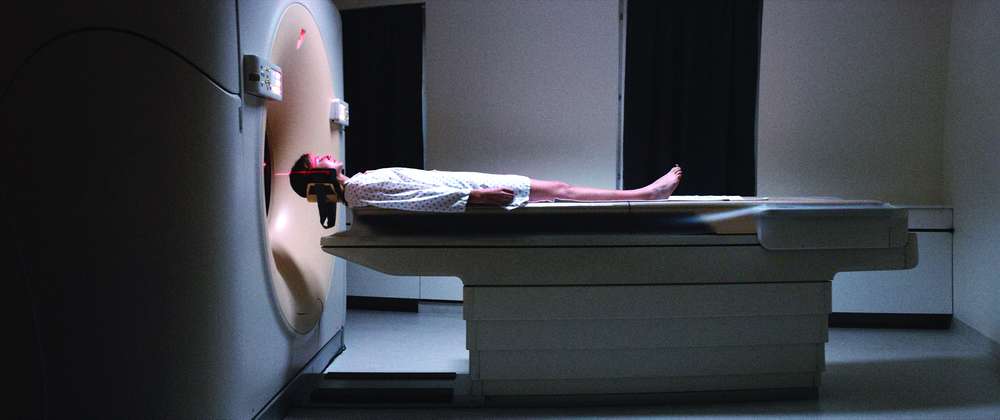Немного о личном. Когда порой студентов вконец утомляет мое брюзжание – мол, нынче всё уж не то, что давеча: монтировать не умеют, кадрируют кое-как, структуры расхристаны, если вообще опознаваемы, – то они с эдакой напускной доверчивостью в очах, спрашивают: «А кто сейчас грамотно снимает? Ну вот как встарь. Чтоб с правильным киноязыком. Назовите». Знаю, куда клонят, шельмецы: дескать, устарела, уважаемый, ваша грамота, как арифметика Магницкого. «Ну хотя бы фон Триер», – привычно отбрехиваюсь.
«Так то авторское кино, – совершенно справедливо парируют они. – А кого-нибудь попроще, не гения, не демиурга, просто, как вы говорите, грамотного профессионала?..» Что ж, теперь я знаю, куда их посылать. На фильм «Тельма». Который, правда, по странной иронии кинофортуны тоже поставил Триер, но другой – норвежец, Иоахим и не фон. На Стокгольмском кинофестивале, где мне только что довелось заседать в жюри и где в конкурсе хватало громких имен, от Поланского до дель Торо, «Тельма» (увы, из-за накладок в регламенте оказавшаяся вне конкурса) по классической чистоте киноязыка на голову превосходила всех прочих участников. Ни единой помарки.
Чтобы подчеркнуть весомость явления, необходимо сделать две оговорки. Во-первых, сюжет фильма не только не обуславливал качество результата, но даже не то чтобы способствовал. Мутноватый сюжет-то. Заглавная героиня, юная и замкнутая, учится в университете, вечеринок избегает, в соцсетях не тусуется, да и в целом радости и вольности общения ей вроде бы чужды. Она вообще не без странностей — что до поры объясняется строгостью родителей, людей вроде не злых, но очень уж религиозных (с легким уклоном в маниакальность) и по временам приезжающих к дочери из своего деревенского дома, дабы по-отечески наставить и по-матерински напутствовать.
Еще у Тельмы постепенно завязывается сердечная дружба с сокурсницей, постепенно переходящая, как принято сейчас говорить, в «нечто большее»; еще у нее время от времени сказываются паранормальные способности, заставляющие то стаю ворон атаковать окна аудитории, то люстру в театре опасно раскачиваться; а еще в ее детстве скрыта некая страшная тайна-травма, о которой что она, что родители словно в рот воды набрали. Разумеется, все эти элементы вполне можно увязать друг с другом: комплект из пробуждающейся девичьей сексуальности, пуританско-родительской тирании и сверхспособностей на ведьминский манер, например, был идеально разработан в дебютном романе Стивена Кинга «Кэрри» (тоже, кстати, с именем героини в заглавии). Но чтобы эти взаимосвязи не выглядели умозрительными – или, наоборот, чисто жанровой условностью, – от автора требуется недюжинная цельность стиля. Сам по себе подобный сюжет ясности повествования не обеспечит. Только многозначительный гул намеков на Незнаемое.
Во-вторых, Иоахим Триер на диво изобретателен. В конце концов, не совершать грамматических ошибок не так уж сложно, если ограничиваешься простым и внятным «мама мыла раму», без уточнений вроде «звеня и подпрыгивая». Конечно, и эти-то примеры по нынешним временам не так уж часты, но они есть, и они неудивительны. Но Триер ни один эпизод не снимает «впрямую», очевидным, усредненно-никаким способом: в каждом есть режиссерская мысль, каждый придуман, каждый – решен. Дело даже не в том, сложны эти решения или просты, – тут есть и те и другие. Скажем, тоннель подземного перехода, обступающий Тельму и ее родителей в буквально проходной сцене семейной прогулки, – из простых, этот серый давящий свод и так был чуть ли не осязаем в предыдущем их разговоре, оставалось его показать. А переворот пространства во время купания в бассейне, когда задыхающаяся Тельма, лихорадочно пытаясь всплыть, утыкается в пол, оказавшийся у нее над головой, – ход лаконичный, но изощренный, тут и риманова геометрия дантова Ада недалеко. Хватает в фильме и сугубо кинематографической, вне всяких культурных отсылок, изобретательности – как в кошмарах Тельмы, где обстановка беснующегося ночного клуба дана резкими монтажными врезками, но – вопреки клише – обеззвученными, и тишина этого изображения работает острее, чем если бы в фонограмму вторгался грохот танцпола.
Однако, повторюсь, не в изысканности этих изысков дело; Иоахим Триер просто-напросто знает, что прежде чем снимать любой кадр, необходимо задать себе вопрос, каким именно он должен быть в соответствии с общим устройством фильма (ракурс, композиция, длительность, освещенность, цветовой тон), а прежде чем делать монтажный стык, надо отдать себе отчет, почему именно здесь именно с того кадра нужно перейти именно к этому. Это просто, это даже тривиально – не решение, а задача; решение в этом случае может оказаться сколь угодно сложным, не теряя в обоснованности, ибо конкретика задачи всегда как раз и вынуждает к точным, то есть штучным, нестандартным решениям. В прологе к фильму отец с дочерью, еще девочкой, идут на охоту, переходя затянутое прочным льдом озеро; девочка смотрит на лед – и тут следует кадр снизу, из-подо льда, сквозь который смутно виднеются силуэты героев. Это, что называется, красивый кадр, эффектный кадр, его могли бы себе позволить многие современные режиссеры, чье бытование в профессии сполна описывается чудным старым словом «интересничать». Не то у Триера: дальнейший ход событий час экранного времени спустя объяснит, почему тот эффектный кадр был оправдан и необходим. И почему другой кадр, страшный кадр, венчающий пролог – с отцом, незаметно целящимся в голову дочери, – был бы эстетически невозможен, оставшись дешевым шоковым аттракционом (пусть и мотивированным сюжетно), если б ему не предшествовал тот, из-подо льда.
И так здесь во всем. Каждое режиссерское решение оказывается связано со всеми остальными и встроено в единую систему фильма. Фильм «Тельма», в котором вроде и не сыщешь авторских «отступлений от сюжета» – даже видения и кошмары здесь вполне «сюжетны», – менее всего подходит под расхожую формулировку «рассказать интересную историю» (хотя, полагаю, ее сторонники в своем простодушии тоже не будут разочарованы); ведь рассказ истории есть, в общем-то, занятие безответственное. Оно требует связности, но не цельности, оно тянет нить, заботясь лишь об отсутствии разрывов, а не создает объемный мир, в котором всё рифмуется со всем. Триер же предъявляет зрителю именно мир. Не космических масштабов – лавры однофамильца, по-видимому, режиссера «Тельмы» мало прельщают; его мир – камерный, но в нем есть единство замысла и смысла, позволяющее всем его обитателям: героям, статистам, воронам, рыбам, змеям, люстрам, ракурсам, монтажным стыкам – скликаться, опознавая друг в друге родство по отцу-создателю.
Вероятно, в каком-нибудь Самом Важном смысле «Тельма» – не авторское кино. Вероятно, об Иоахиме Триере не скажешь, что он «размышляет с помощью кинокамеры» или что его кинематограф «отмечен печатью авторской индивидуальности»; нет, его фильм – это всего-навсего хороший фильм, который блюдет классическую строгость и классическое же изящество языковых норм, не претендуя на большее, – и умудряется при этом улавливать выстуженный дух современности и в показе человеческого устройства, и в ритмах будней, чураясь высокопарной старомодности. И, вероятно, «Тельма» не станет этапом в истории мирового кинематографа, не ознаменует, не проторит и не перевернет.
Но, в конце концов, такой Триер у нас уже есть.
А теперь есть и другой. Скромнее, камернее.
И не хуже.
Алексей Гусев