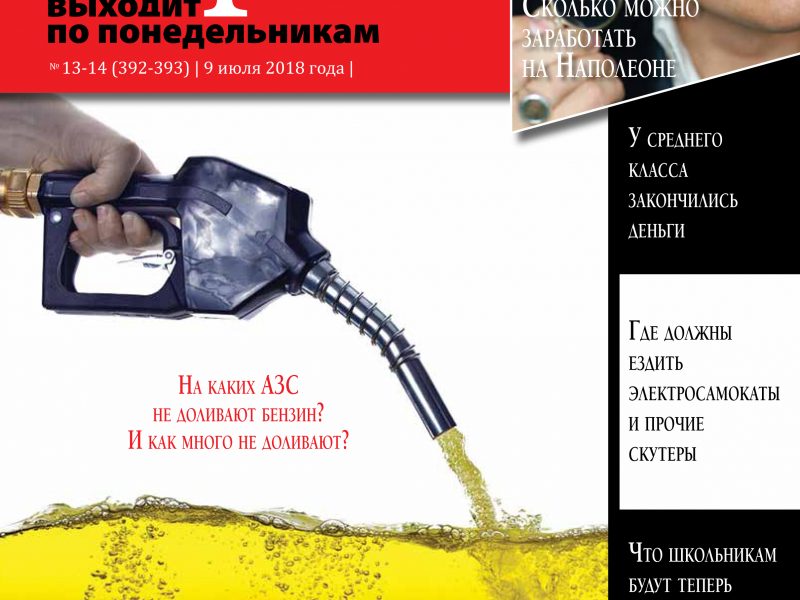Вениамин Смехов – многолик. Он уже давно не только актер, но и режиссер, литератор и чтец-декламатор. И даже роль Атоса не стала для него кармой, хотя только ему опять пришлось его играть.
– Что для вас сейчас самое интересное?
– В каком смысле?
– В метафизическом.
– Самое интересное для меня сегодня – проследить за тем, что случилось с нашей культурой за почти две сотни лет. В одной лекции Набокова есть идея, которая мне чрезвычайно нравится, я ее по-умному не перескажу, но смысл таков: Гоголь и Достоевский, а также и Салтыков-Щедрин, и Сухово-Кобылин, но главным образом те два гения – Гоголь и Достоевский – увели в сторону то, что было великим достоинством русской культуры. А именно легкое пушкинское дыхание, которое восстановилось лишь у Чехова, в его пьесах.
– Что значит “легкое дыхание”?
– Понимаете, Пушкин никогда никого не обвинял. Для него и Онегин – не подлец. Такова пушкинская эстетика – без всяких обвинительных заключений. Другое дело, назидательная литература, которая ярче всего в лице Гоголя и Достоевского увела пушкинскую традицию в сторону и сочинила другую Россию. Мне очень нравится мнение Набокова по поводу “Ревизора”, что Гоголь не знал ни украинской, ни русской действительности. А при этом – будучи гением и став, кстати, жертвой собственной гениальности – пересочинял эту действительность. Не случайно ведь, в “Ревизоре” нет ни одной нормальной русской фамилии, нет реальной географии. Все – выдумано. И вместе с тем мы считаем эту пьесу национальной комедией. Кстати, я трижды ставил “Ревизора” в свое удовольствие.
– Один деятель культуры мне декларировал, что у России не так много чем можно гордиться и от чего можно испытать национальное счастье: это классическая литература, балет, музыка и космос. А больше гордиться нечем.
– Тема гордости – сама по себе вопросительна. Человек должен жить, максимально реализовывая данные ему от Бога, от родителей способности. И государство должно, в лучшем случае, не мешать, а в нормальном – помогать какими-то социальными институтами, чтобы у человека была возможность проверить себя, свой выбор, что-то менять, чтобы будущее было человекообразное, чтобы не приходилось бояться старости. Но несовершенство государства вообще, и нашего в особенности, резко контрастирует с тем, чем мы могли бы гордиться.
Конечно, мне приятно гордиться, когда в какой-нибудь далекой провинции – Бразилии, Австралии, Сингапуре – я слышу по радио звуки музыки джазовой сюиты Шостаковича.
– То есть и в вас тоже просыпается патриотизм.
– Гордиться своей родиной и прочие вещи – это идеологема, пожалуй, более всего свойственная сверхдержавам. Мне довелось наблюдать, передвигаясь по Америке в течение трех месяцев 91-го – во время военных событий в Персидском заливе, – как редко менялись у американцев нормальные пульсы на патетические. Повсюду взвивались флаги, украшались национальной атрибутикой машины. Все это чрезмерно.
Если все же принудить себя гордиться, то уж как раз чего-чего, а знаков, следов, примет, пунктов, единиц культуры на нашу страну гораздо больше, чем может быть на другую какую-нибудь страну.
– Вы произвели подсчет? Это любопытно. У нас получилось больше, чем у Франции с Англией?
– Я имею в виду универсальные признаки, которые оказались пригодными для всего мира. Взять хотя бы времена авангарда, ничто так не повлияло на развитие современного искусства, как балет, живопись, театр “из России”. А знаменитая студия “Альбатрос” в Париже, в центре кинематографа, долгое время питавшее пространство этого искусства?! Российская почва как была, так и осталась необъяснимо плодотворна для всего, что касается креативности. Уж, казалось, все было сделано, чтобы идеологией подавить частного человека, превратить всех нас в месиво пельменного вида. И вот уже нет индивидуальностей, но вылезает кто-то и что-то. Российский театр 50-х, постриженный “под МХАТ”, и вдруг – событие, появляются “Современник”, Таганка. И так повсюду – в кино, в музыке.
– А вас не раздражают вечные наши сетования: ах, раньше было лучше, вот раньше были титаны. А сейчас всё мельчает!
– На самом деле, просто раньше мы болели одной болезнью, а сейчас другой.
– Раньше любили КПСС, а теперь доллар?
– Да, но главное не изменилось – как и раньше, людей по-прежнему ценят не поштучно, а скопом, массой.
…Как-то на вечере культуры в Армении Александра Ширвиндта – как преподавателя с 50-летним стажем, спросили: “Как вы расцениваете бесплодность нашего сегодняшнего театра?!” Ширвиндт очень интересно и метко обозначил разницу прошлого и нынешнего педагогического процесса в театральном институте. Раньше два года из четырех лет надо было разжимать абитуриентов, чтобы они стали свободными. А сейчас наоборот – их надо года два зажимать, чтобы начать работать. Я сам это наблюдал, когда работал с молодыми артистами на Западе. Труднее всего работать с теми, кто уверенно-правдив “напрокат”. Молодой человек храбро так начинает говорить, и ты вдруг видишь, что он использует набранные напрокат телевизионные штампы. Но, так или иначе, у них нет того зажима, который был признаком почтения к старшим.
– И все-таки – про ностальгию. Сейчас все чаще вспоминают “кумиров прошлого”. Это хорошо?
– Это хороший сдвиг в общественном поведении. Я имею в виду обращенность к старшему поколению. Действительно, самое интересное сегодня на телевидении, допустим – это ретропрограммы, документальные фильмы, рассказывающие об ушедших фигурах, скажем, искусства. И естественно, как всегда у нас – широко шагая от нормы до абсурда. Переступают границу допустимого, пытаясь докопаться до чего не следовало бы докапываться, подсматривают в замочную скважину. Но сама тенденция уважить себя знанием того, кто были наши отцы и деды – в эпохальном смысле, – это хорошая черта.
– Николай Фоменко рассказывал историю про то, как 17-летний мальчик, интеллигентный и образованный, реагировал на имя Высоцкого. Это было несколько лет назад в каком-то московском доме. Там был писатель Григорий Горин, и он кричал: “Высоцкий! Высоцкий!” Потом обнял этого юношу и спросил: “Ну как, друг мой, нравится тебе Высоцкий?” – “Потрясающе, все очень здорово. Но зачем так кричать?” Это я к тому, что молодые поколения иначе всё воспринимают. А мы пытаемся жить прошлым.
– Когда зрителю показывают артиста, который вспоминает с ностальгией: “Я помню, мне бабушка называла это имя…” – это важно. Эта соединительная ткань воспоминаний очень важна для самочувствия общества. Скажем, я знаю, что для Лени, моего старшего внука, одинаковую ценность представляет продукция нового времени и прошлого.
– А ваш внук Леня – он внушает вам оптимизм?
– Леня как раз внушает мне за целое свое поколение большие надежды. Хотя, конечно, он – филолог, преподающий будущим студентам МГУ риторику, – и его друзья, что называется, элита поколения. Но почему надо ориентироваться не на тех людей, которые читают книги, разбираются в своей профессии, думают о будущем страны, ее культуры, а на тех, которые не живут, а просто тупо убивают время?
– Так он занимается риторикой?
– По вашему выражению лица я вижу, что вы не понимаете значимость этой профессии. Я, кстати, тоже прежде не понимал. Но сегодня риторика значит очень многое, не случайно, во всем мире распространены экзамены по риторике. Один из моих лучших американских учеников-артистов – я трижды ставил в Чикаго, – как-то участвовал в конкурсе риторики в Канаде. И был невероятно счастлив, когда победил. Мастерство произношения и спичмейкерства надо ценить. Иначе можно “проболтать” эпоху. Что хорошего в том, что Черномырдин не умеет говорить, с хорошей речью были проблемы у Ельцина, Горбачева. А два питерских господина, которые сейчас на двоих возглавляют страну, другое дело – их можно слушать. Они говорят, не глядя в бумажку, они увлекаются по ходу дела. И не промахиваются, не ошибаются в речи. Может быть, я так реагирую потому, что я – пленник русской речи и я, признаю, готов промахнуть смысл, зато фигуру речи оценю.
– И поэтому вы много сил отдаете проекту “Книга вслух”?
– Да, мне нравится заниматься “звучащей книгой”. Сегодня моя любимая работа – это концерты, режиссура и аудиокнига. Все эти три вида создают иллюзию моей надобности. Я записал у микрофона уже целую библиотеку “Шишкин лес” Червинского, “Вальпургиеву ночь” Ерофеева, Маяковского, Маршака, Даниила Хармса. И особая моя радость то, что озвученный мною булгаковский “Мастер и Маргарита” в течение двух лет назывался лидером продаж.
– Принципиально читаете только отечественную литературу?
– Русский язык действительно – моя родина. Но это ничего не значит. Я читал и западную литературу. Кстати, и “Трех мушкетеров” Дюма. Это было такое наслаждение. Так славно переведена эта книга. А на французском она звучит, может быть, в тысячу раз забавнее.
– Не факт – иногда перевод интереснее.
– Может быть и такое. “Над пропастью во ржи” или “Глазами клоуна” в переводах Райт-Ковалевой, с которой я был знаком (знаменитая переводчица, о которой Чуковский сказал, что она “добивается точности перевода не путем воспроизведения слов, но путем воспроизведения психологической сущности каждой фразы. – Прим. авт.), воспитали новую русскую прозу. Не Сэлинджер, ни Бёлль, ни Апдайк, ни Фолкнер, а именно переводы их произведений, своего рода дубль-креативное пересоздание.
– Раз уж вы упомянули Дюма – на экраны выходит “Возвращение мушкетеров”. Вам не скучно было снова сниматься в той же, но постаревшей компании?
– Вы не представляете, какое это счастье – вновь оказаться среди своих. Миша Боярский в первый день съемок подарил мне футболку, где три козла – д’Артаньян, Портос и Арамис – встречаются на том свете с Атосом, и граф в качестве ангела говорит слова: “Черти, как я по вам соскучился!” Ей богу, я чуть не заплакал, когда Боярский нас всех обнял и сказал: “Это невозможно, но мы опять вместе!”.
– Так это все затеяно, чтобы вы поумилялись?
– Вообще, по-моему, получилось неплохо. У нас не было цели конкурировать с самими собою тридцатилетней давности. У нас не было претензии переиграть тот фильм. Было замечательно вернуться в молодость, стать вновь безрассудными и веселыми.
Елена Боброва