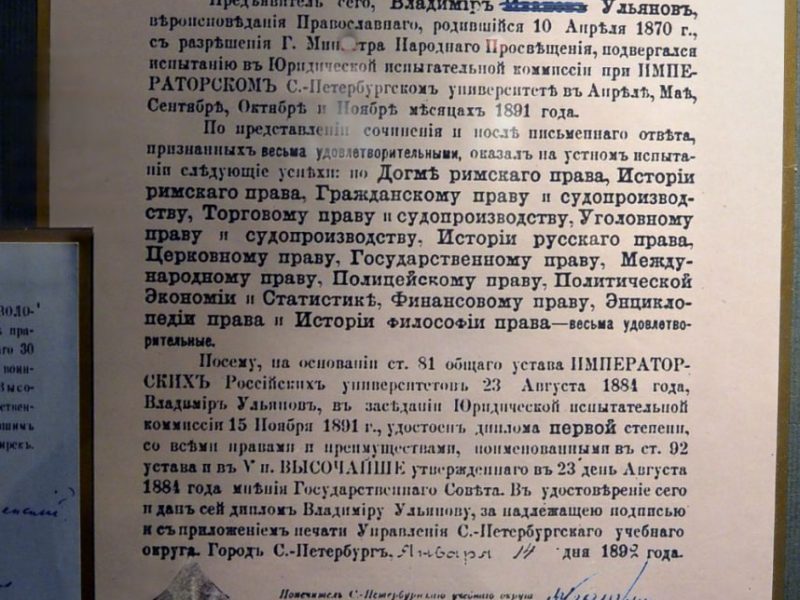В Минобразования РФ задумались, не ввести ли обязательный ЕГЭ по истории. Дискуссии об этом ведутся уже нескольких лет, но мало кто, включая чиновников, имеет представление о том, зачем вообще нужно изучать историю. И можно ли ее навязывать школьникам как «точное знание»?
В поисках ответов на эти вопросы «Городу 812» помогал доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Адриан СЕЛИН.
– Так стоит вводить историю в виде обязательного ЕГЭ?
– Нет, не стоит. Это лишь вызовет резкое усиление отвращения школьников к истории как к «науке о бессмысленных датах и актах». Кроме того, снизится планка показателей проходного балла. Как это уже произошло с математикой. Сейчас историко-культурный стандарт требует от школьника выучивания огромного числа дат и «фактов». И на ЕГЭ по истории записываются люди более или менее мотивированные. Если же этот экзамен будут сдавать все – его стандарты снизятся.
– Вы вообще против ЕГЭ?
– Вообще я за ЕГЭ. Потому что честнее никто ничего пока не придумал. Вернуться к устному экзамену – это, несомненно, вернуться к менее честной модели. Самый серьезный минус ЕГЭ – суммирование баллов. Человек, который хочет стать историком, может плохо сдать английский язык и, таким образом, он проиграет другим, кто хорошо знает английский и русский, а историю – хуже. Но в итоге в борьбе за место на истфаке они его обойдут. Но все равно я за ЕГЭ по истории, однако только по выбору.
– А вы понимает, зачем мы вообще изучаем историю, особенно в школе?
– В широком смысле мы изучаем историю прежде всего для себя. Любое общество будет кормить какое-то количество историков просто для того, чтобы понимать, что оно из себя представляет «в пространстве и времени». То есть для самоидентификации. Здесь важна попытка (очень личная, индивидуальная) разобраться в своем отношении к прошлому, иногда – дать оценку, иногда – никакой оценки не давать, определить сложность и нелинейность прошлого.
– А в школе чему надо учить?
– На мой взгляд, школьная история должна давать не противоречащую «чистой науке» картину прошлого, которая помогала бы школьникам – а значит и обществу в целом – как бы узнавать и понимать себя нынешних.
Проблема, таким образом, в том, насколько историческая политика государства обращена в настоящее или в прошлое. Иными словами, актуальна ли эта историческая политика или ретроградна. Тянет она общество вперед или заставляет глядеть назад и в итоге топтаться на месте.
– И как вы оцениваете нынешнее состояние дел?
– Многие российские чиновники говорят об истории сугубо на языке прошлого. И, например, их слова о патриотизме базируются на официальном определении этого слова 50-летней давности. Хотя слово «советский» из официального лексикона убрано, но в большинстве случаев когда представители власти говорят «патриотизм», они подразумевают не что иное, как «советский патриотизм» образца 1960–1970-х годов. Они навязывают этот язык средствам массовой информации, и в итоге обществу предлагается официальный дискурс прошлого, связанный не столько с «любовью к родине», сколько с постсоветским имперским ресентиментом. То есть с чувством обиды за крах советской сверхдержавы и жгучей зависти к тем, кто встал во главе «однополярного мира». В итоге поиск такого ресентиментного положительного образа прошлого порой доходит до апологии Ивана Грозного. А уж критика Петра Первого и вовсе воспринимается как «покушение на основы». Это связано с теми канонами, которые были усвоены в позднесоветской школе и от которых некоторым людям тяжело отказаться, как от своего детства.
– Правильно ли вообще историю считать наукой? Ведь ни один факт нельзя считать стопроцентно достоверным и ни одно историческое объяснение невозможно проверить.
– В каком-то смысле историческое знание – чисто риторическое. То есть это всегда в большей степени мнение, чем истина. Если говорить на языке постмодернизма, то исторические факты – это интеллектуальные конструкции…
– То есть достоверных исторических фактов нет?
– Абсолютно достоверных – нет (если следовать постмодернистской парадигме). Историк (или популяризатор науки) в известной мере конструирует факты, формулирует, с большей или меньшей опорой на существующие источники. Самые яркие здесь примеры, конечно, из средневековой истории или истории раннего Нового времени. Мой коллега Вячеслав Козляков очень хорошо писал про события в Нижнем Новгороде осени 1611 года. На самом деле мы очень мало что знаем о том, что же именно произошло в нижегородском торге. Но любому российскому обывателю «совершенно очевидно», что земский староста Козьма Минин призвал в этом месте и в это время горожан собрать средства на освобождение Москвы от поляков. Подобным «сконструированным» примерам, который воспринимаются обществом как достоверные факты, несть числа.
Но если идти на поводу у постмодернистского вызова (когда любое знание условно и относительно), мы придем не к научной истине (хотя бы и в форме мнения), а к пустым и никому не интересным софизмам. Обществу это не нужно и ученым тоже не нужно!
Да, слово science применительно к history сегодня очень редко употребляется. Современный историк – это интерпретатор. Поэтому современные историки не употребляют слово «доказательство», а используют другое: «аргумент»…
– И, тем не менее, вы считаете, что профессиональные историки что-то знают и о чем-то могут поведать обществу.
– История как наука – это производство экспертного знания в первую очередь. То есть «коллекция мнений» профессиональных историков, имеющих моральное право на экспертные суждения в силу своей профессиональной компетентности.
Основная причина недовольства, которое сегодня проявляет общественность в отношении исторической политики государства, заключается в том, что власть, навязывая обществу глубоко устаревший исторический дискурс, совершенно игнорирует мнения экспертного сообщества профессиональных историков. И принимает решения без учета экспертного знания.
– Например?
– Явной ошибкой, например, было предложение фигуры Рюрика и летописной легенды о призвании варягов в качестве базовой для празднования в 2012 году юбилея российской государственности. На Северо-Западе эта фигура только разъединила элиты: начался спор о том, куда – в Ладогу или Новгород – был призван Рюрик, а восточнее Москвы, где в IX веке существовали совсем другие государства (Булгария, Хазария и т.д.), не имевшие к варягам никакого отношения, эта дискуссия и вовсе не нашла понимания. И этот пример – один из самых безобидных.
– История сегодня ушла в сторону «антропологической» повседневности, обратилась к деталям вместо целого. Историки в меньшей степени пытаются ответить на «большие вопросы». Что-то не видно новых «больших исторических концепций», аналогичных старым – модернистским (либеральной, марксистской, цивилизационной и т.д.).
– Я считаю, что, помимо «маленьких ответов», в современной истории, несмотря на ее антропологический и микроисторический уклон, все же возможны «широкие мазки». И они важны. Многие вопросы каждое поколение ставит заново. Я занимаюсь ранним Новым временем и, например, на вопросы об интерпретации Смуты Московского государства начала XVII века сейчас мы не можем отвечать так же, как 20 или как 50 лет назад.
Современная глобальная концептуальная установка, на мой взгляд, должна заключаться в отказе от слов «национальная историография». Необходим уход в глобальную сравнительную историю. Правда, здесь тоже таится угроза вульгаризации. Через два года, например, будет конференция в Бостоне. И там есть секция – «Глобальная история Балтийского моря в раннее Новое время». Если бы написано было «локальная история», то доклады были бы ровно те же. Но открыть панель на конференции со словами «глобальная» – проще. Хотя это и явная терминологическая натяжка…
Вообще, мода в науке – это не очень хорошо. Не должны все ученые, например, получать поддержку только на осуществление гендерных исследований, как это зачастую происходит сейчас. Или только на изучение постсоветской истории. Но, с другой стороны, если мы будем выпускать студентов на открытый рынок, не знающими о модных тенденциях, не знающими современного языка глобального исторического знания, мы должны будем поставить себе двойку.
– Все же остается ощущение, что история как наука – очень зыбкая и субъективная дисциплина. Нужно ли преподавать историю в школах и вузах именно как науку, дающую верные ответы на все вопросы? Или историю лучше подавать как информацию для размышления?
– Я бы немного переформулировал вопрос. И сказал бы так: «Каков баланс должен быть между контентом и методом?» Соотношение, на мой взгляд, должно быть в пользу метода. Я всегда задаю один вопрос, когда приходится преподавать историю не историкам: «Что у вас вызывало отвращение в истории в школе?» Первый ответ – факты. Такое количество фактов, которое дает стандарт образования, выучить невозможно и не нужно. Меня в университете учили: если не знаешь контекста даты – бесполезно ее запоминать. Образование – дорогая вещь. Дороже всего в образовании – преподаватель. Все беды качества современного российского образования – большие группы, большие классы. Выпускник должен уметь отвечать осмысленно на простые и наиболее важные вопросы по истории, а зазубренное «знание обо всем» никому не нужно. К примеру, когда был открыт Второй фронт – на этот вопрос историк не может не ответить. А назвать поочередно всех самозванцев в Смутное время или всех римских императоров III века – ну, я полагаю, необязательно. Или мой любимый пример: что толку вызубривать дату Ледового побоища, если не знаешь европейского или азиатского контекста середины XIII века?
– Школьные учебники до сих пор полны устаревшими стереотипами. Какие «мифы», переставшие быть актуальными в экспертном историческом сообществе, до сих пор сохраняются в школьных учебниках?
– Эти стереотипы, в основном, связаны с наследием советской школы. Например, миф о том, что Россия после Ливонской войны была отрезана от Балтийского моря. Еще в 1953 году Игорь Шаскольский, которому в этом году исполняется 100 лет, тогда еще молодой, опубликовал статью, где убедительно доказал, что это ошибка. Территория современного Санкт-Петербурга (дельта Невы) оставалась с 1573-го по 80-е годы ХVI века под юрисдикцией Московского царя. Однако в ЕГЭ каким-то образом этот вопрос включили в его антинаучной, так сказать, версии. Почему? Потому что эти стереотипы выросли из учебников 1950-х годов.
– Разве такой мифологический подход не соответствует позиции министра культуры Владимира Мединского, согласно которому те, кто отрицает «подвиг 28 панфиловцев», люди невысоких нравственных убеждений?
– Это антиэкспертная позиция. И она губительна для общества. Вообще, самая серьезная проблема качества управления в РФ – это отказ от экспертного знания…
– И куда ведет общество такая политика?
– Я не знаю, куда ведет такая политика общество. Я историк, и прогнозы давать не буду, ибо не умею. Но я вижу следующее: налицо архаизация исторической политики. Власть не интересуют процессы, история мысли, история культуры. В сознании большинства в итоге история гиперперсонализируется. Я такую историю называю историей матрешек: кто за кем правил, кто куда ходил. Этого требует дискретный подход, который, к слову, как раз очень подходит для ЕГЭ. Люди в России преимущественно знают историю так, как ее писали еще в XVIII веке. Не случайно «Синопсис» Гизеля, на котором базировался неисторик Ломоносов, громивший историка Миллера, – одно из самых тиражных изданий по истории и после Миллера, даже в начале ХIХ века. И сегодня, в XXI веке, по очень похожим «синопсисам» старшие школьники готовятся к экзаменам. Проблематизация же истории выхолащивается. Если это станет обязательным для всех, наступит массовое отвращение к занятию историей. Мне как профессионалу это очень обидно.
Серафима ТАРАН