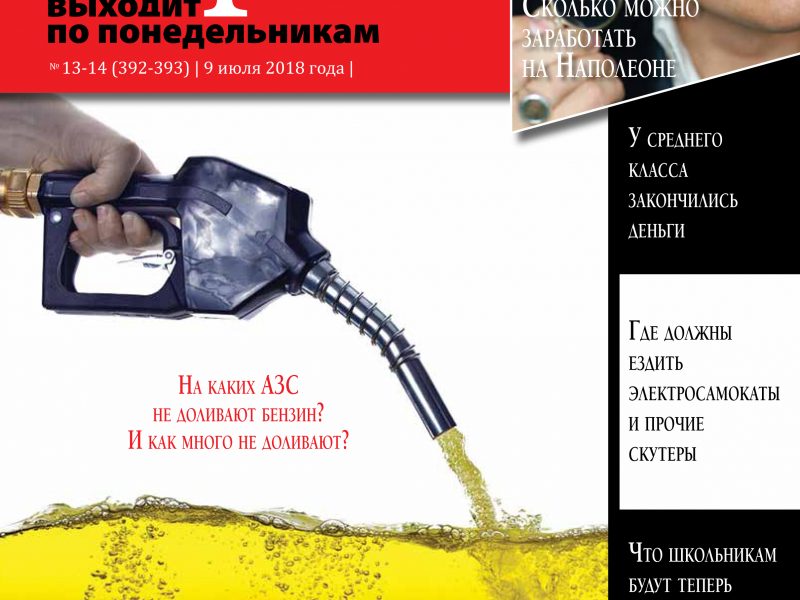За два дня до премьеры разразился скандал. Несколько СМИ решили возмутиться использованием ненормативной лексики в драматических театрах. Главным врагом цивилизованного человечества был объявлен «Приют комедианта», выпускавший спектакль по пьесе молодого драматурга, представителя «новой драмы» Юрия Клавдиева. Там такое! такое! Что именно – пока непонятно (обсуждения велись до премьеры). И вообще мат на сцене – это фи. И несколько дней подряд это «фи» всерьез обсуждалось. Ходили слухи, что после этого «фи» спектакль и вовсе закроют. Во избежание и в назидание.
Отчего солидные люди (в том числе и депутаты) принялись вдруг примерять кисею и воображать себя “смолянками” – решительно непонятно. Это ведь не здесь, не в Питере, лет пятнадцать тому назад летал над нами “Ла фюнф ин дер люфт” (выдающийся спектакль Александра Галибина по пьесе Алексея Шипенко), не здесь Алексей Девотченко который год играет “Эпитафию” по текстам Лимонова и Кибирова, не в “Балтийском доме” до сих пор идет “Изображая жертву” (плохой спектакль, согласна, но тамошний мат менее отчетливым от этого не становится). Внимали с благодарностью. А тут вдруг – переполошились.
Реальных причин нет. То есть – совсем нет, поскольку в спектакле молодого режиссера Андрея Корионова от клавдиевского мата осталось мало просто до неприличия. (К тому же афиша честно предупреждает о наличии ненормативной лексики и не рекомендует спектакль зрителям, не достигшим 18 лет.) Паника, похоже, утихла сама собой, как только выяснилось, что начальственной “отмашки” наши пуристы так и не дождались. Тем забавнее – когда волна схлынула – оказался сам спектакль. Невинный и простенький, как тюзовский утренник.
Фабула такова. Пенсионер Семен Афанасьевич пригрел у себя беспризорного тинейджера Андрюшку и сделал его помощником в своем нелегком деле. А дело у Семена Афанасьевича интересное: он отлавливает бомжей и прочих бедолаг, убивает, расчленяет трупы и сжигает в духовке, полив предварительно подсолнечным маслицем. Все это, разумеется, из идейных убеждений. Главное из которых заключается в том, что подопечные Семена Афанасьевича “своего лета на помнят”. (То бишь утратили ощущение полноты и осмысленности бытия – так примерно.) “Хороший ученик” не замедлит последовать по стопам учителя – наловчившийся Андрюшка, вспомнив “свое лето” (овраг, ветер, в общем, как-то хорошо было), убивает пенсионера ножиком.
Во втором акте публика видит группу отдыхающих подростков: портвейн, травка, оральный секс. Присоединившийся к отдыхающим Андрюшка, оставшись наедине с наиболее бесперспективным в смысле воспоминаний о “лете” субъектом, вновь применяет уже известный нам ножик. Некто Саня напоминает Андрюшке некоторые подробности их совместной давней прогулки к оврагу – весной дело было. Потрясенный тем, что и сам он “своего лета”, оказывается, не помнит, Андрюшка тянется за ножиком. Свет гаснет.
Это если без мата. Но без мата тут, согласитесь, трудно.
В пьесе есть небессмысленные вещи. Сама постановка вопроса: персонажи, страдающие от неполноты бытия, от отсутствия “правил жизни”, устанавливаемых тем самым счастливым “летом”, – классический (прошу прощения за неприличное слово) расклад русской драмы. Есть и свой “поворот винта” (стилистически неожиданный, тот самый, что и способен сделать пьесу актуальной): прервав построение трехэтажных конструкций, два персонажа, встретившись над свежим трупом, не пытаются даже имитировать наличие эмоций, хладнокровно и исключительно вежливо беседуя: “- Любопытная теория. – Да, твоя тоже ничего”. Такие вот гопники.
Ни на секунду не сомневаясь, что убитый – всего лишь “балласт”, теоретики продолжают диалог: “А твой ли это балласт? И надо ли его сбрасывать? А может – поздно уже? […] И на х… этот балласт не нужен – сбрасывай, не сбрасывай?” Подобные основания для постапокалиптической терпимости (когда ближний не нужен ни живой, ни мертвый) оптимизма, конечно, не прибавляют, но драматизма – отчего же, вполне, вполне…
Впрочем, режиссера Корионова этот сюжет не увлек. Он допустил одну, довольно распространенную при постановке “новой драмы” ошибку, которая повлекла за собой все остальные. Попытался эстетизировать материал. Украсить как-то. Тут слушают Доницетти, по мере сил изображают танец модерн, в финале героиня облачается в белый платочек, а задник развевается белым парусом, в общем, балуются возвышенной мутью. Жанр спектакля режиссер назвал “мистической антиутопией” (что свидетельствует только о степени его растерянности), а сам был не прочь то поиграть в гиньоль (горло тут перерезают наглядно, с фонтанчиком крови, да и артист Жданов хорош в традиционном для него жанре), то вовсе норовит удариться в “условность” – место расчленяемого трупа заняло крупное чучело (неужели цитата из давнего спектакля Захарова “Школа для эмигрантов”?).
Досаднее всего дело обстоит со способом актерского существования – это типично тюзовская травестия, сентиментальная и вымученная, – и неважно, идет ли речь о пионерах на сборе металлолома, трех поросятах или гопниках, дышащих клеем в подвале. Недаром извиняются тут куда естественнее, чем матерятся. Ну и подавно в спектакле и следа нет той изощренной игры с агонизирующим языком, ледяной и отстраненной, которая была в галибинском “Ла фюнф…” (и оправдывала мат всецело. Собственно, отменяла необходимость оправданий).
Вот так и получилось, что цензура (которой у нас, конечно же, нет) внезапно ополчилась на трех поросят, которые мирно хрюкали для вечернего развлечения почтеннейшей публики.
Лилия Шитенбург