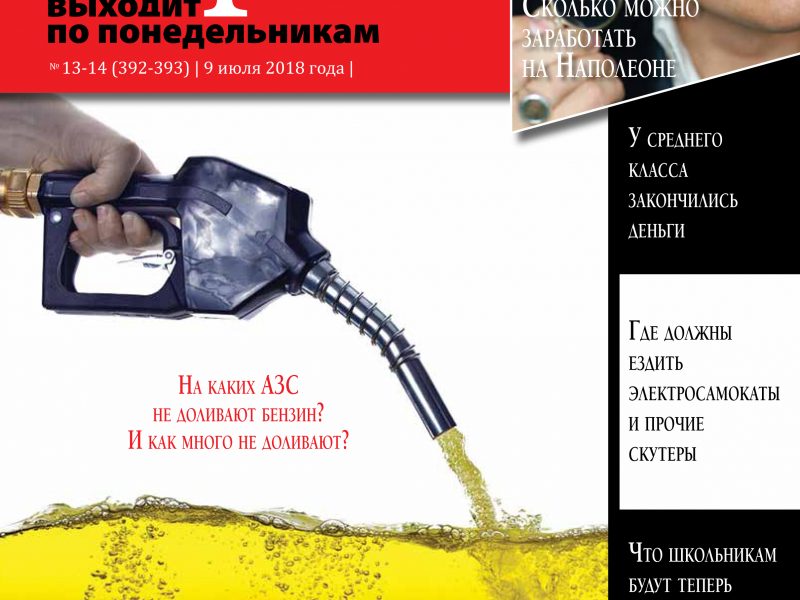Дмитрий Воденников – один из самых эпатажных современных поэтов, о котором говорит «вся Москва», но который известен кое-кому и в Петербурге – по крайней мере его и сюда приглашают почитать стихи. В прошлом году на турнире поэтов в Политехническом музее он был признан «королем поэтов». О том, кому надо завидовать, а кому – нет, он рассказал «Городу 812».
– В прошлом году вы были признаны “королем поэтов”. Носите корону?
– Нет. Я положил ее на пол. Даже не надевал на голову.
– Чего так?
– Королем я был без всяких выборов, я так себя внутренне ощущал. А то, что выберут меня, не ожидал. Да и не нужно мне это было.
В тот день, когда проходило коронование, у моей собаки – карликовой таксы – началась первая течка. Для меня, как для мужчины и хозяина, это было потрясением, я только об этом и думал.
Честно говоря, считал, что сойду на первом туре, и надеялся на это, так как хотелось поскорее уехать домой. Сначала даже расстроился, что прошел во второй тур, потому что не рассчитывал ни на какие официальные короны. Я и так знаю, что сильно раздражаю поэтическую тусовку.
После второго тура я за кулисами дергался из-за собаки, и тут кто-то мне сказал, что, скорее всего, выберут Елену Исаеву. Я обрадовался и засобирался домой. Но объявили, что королем стал я. Но так как я пришел туда, только чтобы принять вызов, а не получать короны, поэтому и положил корону на пол.
– Она так и осталась там?
– Кто-то ее взял, кто-то фотографировался с ней. Это не моя забота думать, что будет с этой короной. Не царское это дело.
– Почему вы считаете, что раздражаете поэтическую тусовку?
– Этому есть примеры, но не могу сказать, что это меня очень интересует. Но я отлично помню, что было на следующий день после того, как меня выбрали королем поэтов, я посмотрел свою френд-ленту в ЖЖ – а она у меня большая, – там были одни возмущенные посты. У меня осталось воспоминание оглушительной тишины (никто не звонил) и беззвучного крика в инете. Я сидел дома, подтирал кровь за собакой. И не было ни одного звонка, ни одного письма.
– Что – никто не поздравил?
– Абсолютно. Но я говорю это без всякого нажима. Так и должно было быть. В ленте стоял беззвучный крик. Здесь – мое одиночество. Все справедливо.
Мне оно вообще очень свойственно. Особенно когда я приезжаю домой после выступлений. Билеты на них расходятся за две недели, залы полные. Я понимаю, что люди сидели как под гипнозом, что у меня что-то получилось, но дома – полная тишина. Я начал любить следующий день после выступлений.
Всегда удивляюсь, когда читаю воспоминания литераторов или артистов, как они рассказывают о том, как им звонили друзья, поздравляли с премьерой. Их слава имеет к ним отношение. Моя слава ко мне не имеет никакого отношения. После выступлений у меня нет фуршетов. Как-то после выступления в Питере я возвращался домой к друзьям и расплакался. От недополученности энергии. Я ее выбрасываю, а обратно не получаю. Я всегда знал, что между мною и зрителем некий стеклянный занавес.
– Ахматова написала: “Я научила женщин говорить”. У вас есть строчка: “Я научу мужчин говорить”. Зачем вы Ахматову передразниваете?
– В моем стихотворении после переделанной ахматовской строки дальше можно прочитать: “бессмысленно, бесстыдно, откровенно”. Мужчины не умеют говорить бессмысленно, бесстыдно, откровенно. Мужчины выработали свой язык, но этот язык бесполый на самом деле, даже если он используется в порнографии. Мужчина не был способен говорить на языке тела, он говорил от головы.
– А Маяковский разве был не откровенен?
– Какая откровенность, если он спрятался за идею? То, что он говорил до революции, было откровенно, это была подростковая истерика. А потом он испугался и спрятался за махину государства, за “бороды”, так он называл членов ЦК.
В свое время меня поразило его признание после выставки, которую он организовал по поводу тридцатилетия своего творчества: “Никто не пришел”. Я полагал сначала, что и в самом деле никто не пришел. Оказалось, что пришло огромное количество людей, а не пришли “бороды”. Какая царедворская и пошлая интонация! Его настоящие читатели – никто, а “бороды” – все. Это и есть чисто мужская система. Он стал писать для “бород”.
– Вы для “бород” не пишете?
– Если бы я стал писать для Путина или для Медведева, это было бы смешно. Они решают совершенно другие проблемы – отношения с НАТО, кризис, конфликт на Кавказе, вопрос денег и власти. Я-то тут при чем? Единственное, как мне кажется, в чем Путин понял бы меня, так в том, что у него есть собака, как и у меня.
Я не делю людей на “никто” и “кто-то”. Если я когда-нибудь скажу, что на мое выступление никто не пришел, это будет означать только одно – в зале действительно не было никого.
Поэт не различает некоторых вещей, например, звания. Для него нет “бород”, но он различает другое.
– Разве Гете не был еще и министром?
– Значит, во времена Гете это было возможно, а сейчас невозможно. Вот у Пастернака не получилось, у Мандельштама не получилось, у Бродского не получилось.
– Правда, что вы совсем не интересуетесь новостями?
– В прошлом году меня очень взволновала война в Осетии. Она просто вывернула меня как репку за ботву, и я не отрываясь смотрел новости.
– А кризис волнует?
– Меньше. Вот война очень взволновала. И знаете, я вдруг увидел в себе такое, что не ожидал. Оказывается, во мне живет страшный зверь патриотизма. Я бы даже сказал, чудовище патриотизма. Настоящий патриотизм очень страшное, склизкое и темное чудовище.
– То есть любить родину чудовищно?
– Нет, любить родину не чудовищно, но во время этой войны патриотизм был чудовищем. Столько имперских амбиций! Я не люблю себя за это.
Когда я слышу какие-то малоприятные слова высокопоставленного американского чиновника о России, меня это возмущает на уровне физиологии. Мне кажется, что российская власть делает много неправильных поступков в отношении людей, она не различает человека, для нее важнее цель. Но почему, когда об этих неправильных поступках говорят в Европе или Америке, меня это так возмущает? Почему у меня приливает кровь, когда я слышу эти окрики? Потому что внутри меня – под слоем разных вещей – в частности, живет и это дремучее чудовище, и война в Осетии это показала мне сильно. Слава богу, что я не обладаю властью.
– А если бы обладали, отдали бы приказ о взятии Тбилиси?
– Сейчас уже ничего не хочу. Сейчас во мне нет зверя патриотизма. Надо снять шляпу перед теми людьми, кто стоит у власти. Они циничны, но у них железные нервы. Они не наделали глупостей. Хорошо, что я не политический деятель.
– Старшее поколение творческих работников сегодня сокрушается, что власть не прислушивается к ним.
– Как бы это помягче сказать… То, что говорят те, о которых вы сказали, – это пошлость.
– Но они же носители духовных ценностей. Почему бы власти с ними не разговаривать?
– Если бы они были таковыми, то у них такой вопрос не стоял бы, сидели бы они в своих кельях, и их нисколько не интересовало бы, как к ним относится власть. Настоящих учителей это не интересует.
Власть не должно интересовать мнение художника. У художника можно спросить про жизнь и смерть, про любовь, но не о прикладной истории. О чем можно было посоветоваться с Ван Гогом, когда тот отрезал себе ухо?
Это советское наследие. Есть такая байка: у одной молодой в 90-е годы женщины отец был известным в шестидесятые годы писателем. Когда ей звонила подруга, она просила не занимать долго телефон: “Извини, папа ждет звонка из Кремля”. При этом никто ему не звонил, а он все сидел и ждал. Так и проходила его жизнь, он сидел, пух от собственного величия и думал, что скажет Ельцину.
Рембрандт был настоящим художником. Он не смог нарисовать “Ночной дозор” так, как его просили заказчики. Настоящий художник может сделать только то, что он может. Рембрандт искал светотень, светожизнь. О чем с ним можно было советоваться?
– Вы – молодой поэт?
– Я не молодой поэт, мне сорок лет. Молодой – это начинающий, тот, кто пробует свой голос. Я вошел в поэзию 15 лет назад. Статусно я не молодой поэт.
Со своим поколением я не общаюсь, не хожу ни на какие тусовки. Но люблю их стихи, многих. А вообще я живу затворником. Если я куда и хожу, то на свои выступления. Было бы странно, если бы я не ходил и туда.
– Но в магазины-то вы ходите? В метро ездите?
– В магазин я хожу, и в метро бываю, если надо. Но на тусовки не хожу.
– Но на выборы короля поэтов пошли.
– Кирилл Серебренников позвал меня принять участие в поэтическом турнире, мне было приятно. Как сам факт приглашения.
– Какие еще страхи вам присущи?
– Страх унижения. У меня есть некоторая социофобия. На улице я не очень уютно себя чувствую. У меня был период, когда меня возили на машине по городу друзья, они понимали, что не могу ездить в метро.
Я не сравниваю себя ни с кем, но понимаю, почему Ахматова не могла одна перейти улицу. Я понимаю Цветаеву, почему она покончила самоубийством. Ее замучила бездомность в Москве, потом темнота Елабуги. Она просто сходила с ума от этого пространства, своей потерянности в нем.
Почему-то именно со мной любят поговорить городские идиоты. Почему-то именно ко мне подходят сумасшедшие и о чем-то спрашивают. Я не их человек, не похож на альтернативного пацана, но факт остается фактом: они выбирают именно меня.
– Вам льстит, что вас сравнивают с Блоком?
– Сначала, когда пробивал лбом эпоху, льстило. Когда все говорили, что поэзии нет, я заставил поверить, что она есть. Но люди любят сравнения, Пушкина, например, сравнивали с второстепенным французским поэтом Парни, и его это бесило. Когда меня сравнивали с Блоком, я понимал, что это переходящий момент, людям нужны аналогии, параллели. Сначала я праздновал свою победу, сейчас меня это раздражает. Я не ваш Блок, я – ваш Воденников. Блок был туманен, кривоват и эгоистичен, у меня нет этих качеств. Мне надо разговаривать, когда я пишу, в моих стихах много голосов. У Блока есть только его голос. С другой стороны, хоть горшком назови – только в печку не сажай.
Мне больше нравилось, когда литературно продвинутые сравнивали меня с Земфирой, хотя она мне не близка. Я понимаю, что они выделяют, сравнивая меня с ней, – они выделяют инаковость.
– Вы создаете вокруг себя мифы и легенды?
– Любой поэт занимается этим. Слухов о себе я не распространяю, но то, что есть миф обо мне, я знаю. Миф обо мне есть, и хотя миф- это упрощение, я разрушать его не буду, но и продолжать его не стану.
– К кому из современных поэтов вы испытываете белую зависть?
– Почему белую? Я могу завидовать и по-черному. Могу сказать, что завидую всем поэтам, которые меня восхищают, завидую черной завистью, не только белой. Мое восхищение огромно, потому что поэт хочет быть всем. Я восхищаюсь текстами Андрея Родионова, Веры Павловой, Кирилла Медведева, Дмитрия Соколова, Маши Степановой, Линор Горалик… Но когда восхищение схлынет, чувствую себя убогим. Я понимаю, что что-то я сделал, но все равно чувствую себя ничтожеством. Зависть – это большая моя часть. Когда я пишу, обнимаю весь мир, и это чувство не имеет зависти, оно примиряющее. Но как только становлюсь обычным человеком, то испытываю огромное количество отрицательных эмоций.
Мне нравятся люди, которые могут признаться в чем угодно, в том, что они спали с мужчинами, женщинами, собаками, коровами, что они алкоголики, наркоманы, но только не признаются в одном – что они завидуют. Я не поверю пожилой женщине, если она скажет, что не завидует молодой.
Я способен завидовать. Как-то читал “Моцарта и Сальери” и понял, что Ахматова была права, утверждая, что в этой трагедии Пушкин вывел себя в образе Сальери, а Моцарт был прообразом Мицкевича. Известно, что тот писал легче, чем Пушкин, это заметно по черновикам. Кому еще Пушкин мог позавидовать? Эта маленькая трагедия – копание Пушкина в самом себе. Сальери прописан с таким мастерством, с такой деталировкой, а Моцарт почти ходульный. Да и природа его творчества прописана слабо.
Я завидую лучшим поэтам нового времени.
– Судьба у них была в основном трагическая.
– Можно завидовать и страданиям. Мандельштаму, конечно, не позавидуешь, а вот Ахматовой можно. У нее была сложная судьба, но в принципе, по ней не проехались, ее не унижали, не заставляли пить собственную мочу, как Мейерхольда, ее не превратили в обрубок, как других.
Мы завидуем людям, которые прожили трагическую судьбу. Можно позавидовать Жанне Д`Арк. Не костру, конечно, а тому, что она слышала голоса святого Михаила и святой Катерины.
– В России есть литераторы-почвенники-патриоты и литераторы-либералы. Вы кто?
– Я не понимаю ни тех, ни других. Последний год общался с уважаемыми людьми либерального направления и понял, что нам не о чем говорить. Почитав статьи почвенников-патриотов, понял, что нам тоже не о чем говорить.
– Расхожая фраза, что поэт в России больше, чем поэт. Это все к нынешним поэтам уже не относится?
– Поэт вообще больше, чем поэт, и не только в России. Рембо больше, чем поэт? Конечно, он был еще работорговцем. Верлен? Конечно, он был еще наркоманом, алкоголиком и гомосексуалистом. Тютчев больше, чем поэт? Конечно. А я не больше, чем поэт? Больше. Кто-то называет меня скандальной звездой, кто-то сумасшедшим, но я являюсь фигурой, которая интересна не только потому, что я поэт. Если бы я просто писал стихи, то ко мне не приходили бы на интервью с Первого канала или НТВ, и вам я был бы неинтересен. Журналисты приходят не просто к поэту, а еще к выразителю каких-то сумрачных идей. Скажу больше – меня тоже просто стихи не интересуют. Меня интересуют только стихи, которые больше стихов.
– На московского поэта Петербург может оказать какое-то влияние?
– Он сильно повлиял на меня, потому что там живет гениальная поэтесса Елена Шварц. Я никогда с ней не общался и не собираюсь с ней знакомиться, но когда прочитал ее стихи, то понял, что началась новая поэзия после Бродского.
Не могу сказать, что люблю Питер так же, как когда впервые приехал в него в 16 лет. Но тогда я влюбился в него. До сих пор помню “Бутербродную” на Невском, вроде бы такую же, как и московский общепит, но было что-то в этом периферийное.
Нравятся чахлые скверы, эдакий плевок растительности. В Питере вообще мало деревьев, и на бульварах они не как в Москве по бокам, а посередине.
Потом какое-то время, когда я не любил Питер и, приезжая на выступления, чувствовал, что мне было физически плохо. Потом это прошло.
Но вот что я не люблю в Петербурге, так это литературных людей. Я не про тех, кого я считаю гениями, а про общую тусовку. Она очень неприятная. Она провинциальна, злобна, высокомерна без всяких оснований. В Москве этого нет, в Москве могут любить или не любить, но в ней есть великодушие и какая-то царственность. Именно этого нет в питерской тусовке. Там, безусловно, есть интересные люди, но нижние этажи ее – это психологическая помойка.