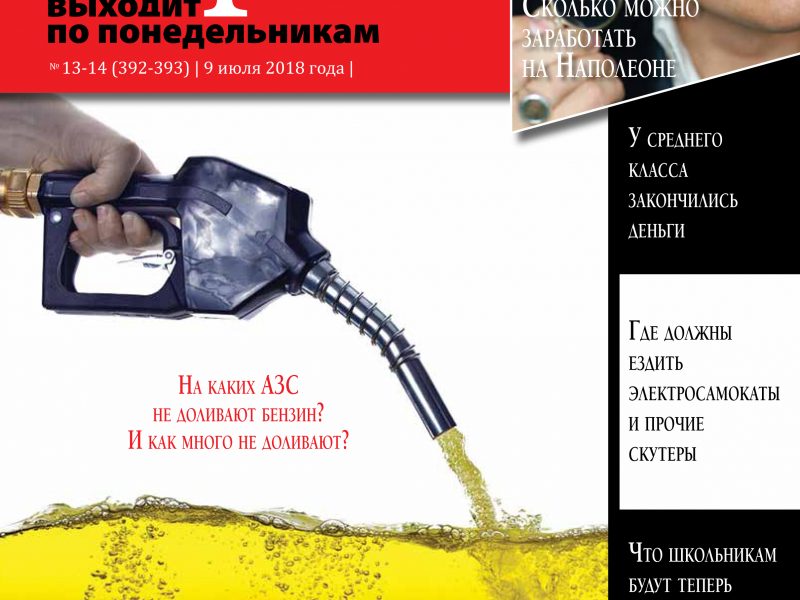Все знают, что сердце у человека находится слева, а печень – справа. Некоторые даже понимают, за что отвечают те или другие органы. Но даже серьезные ученые не могут объяснить, как работает человеческий мозг.
Согласно психологическому толковому словарю, нейролингвистика занимается изучением мозговых механизмов речевой деятельности в норме и при локальных поражениях мозга. Проще говоря, она изучает связи между мозгом и языком. Благодаря каким механизмам мы начинаем разговаривать? И почему вдруг забываем слова?
Обо всем этом “Город 812” поговорил с президентом Межрегиональной ассоциации когнитивных исследований, заведующей отделом Общего языкознания и лабораторией когнитивных исследований СПбГУ, профессором кафедры общего языкознания СПбГУ Татьяной ЧЕРНИГОВСКОЙ.
Размер не имеет значения
– Петербургская наука в области нейролингвистики преуспела?
– А как же. В области нейролингвистики петербургская наука очень многое сделала и находится в этом плане на высочайшем уровне. Я могу говорить об этом с уверенностью, и никакой детектор лжи меня не поймает никогда. Уровень исследований по части нейролингвистики у нас мировой. Это подтверждается международными публикациями, тем, что на нас ссылаются. У нас все очень серьезно в области исследований мозга и языка.
– Как можно изучать изменения мозга на протяжении веков? Ведь мозг – это не та вещь, которую можно законсервировать.
– Мозг как часть человеческого организма законсервировать можно. В некоторых учреждениях, в том числе – в институтах мозга, есть хранилища разных – особенно выдающихся – мозгов. Такие хранилища позволяют нам узнать анатомию, но никак не функции мозга. Это такая парадоксальная ловушка для ученых. Мозг великого человека, оказывается, может мало весить. Он может быть однобоким или сильно ущербным. И тут перед учеными встает подлый вопрос: собственно, какой мозг можно считать “хорошим”? У меня нет иллюзий, что на него можно ответить. Но я точно знаю, что не тот мозг хорош, который много весит.
– То есть размер не имеет значения?
– До известных пределов. Конечно, если он меньше допустимого уровня, то это уже патология совсем. Но это не значит, что чем больше мозг, тем он более развит, ведь у людей с патологиями генетики или развития, даунов или дебилов, может быть очень крупный мозг. Так что показатель развитости – не объем мозга, а сложность его организации. А вот организацию мозга уже можно проверить, но уже не на том мозге, который в банке лежит, а на том, который в живом человеке.
– А как это проверяется?
– Можно сложные энцефалограммы снимать – сложные в том смысле, что из многих точек. Брать не двадцать отведений от черепа, а триста двадцать. Это дает возможность получать информацию более подробно. По полученной картинке активности мозга можно сказать, что хороший мозг это тот, где одна точка связана с другой, с третьей, с десятой и так далее. Чем сложнее организация этих связей, тем более выдающийся мозг мы получим. И это тоже небезупречная линия. Потому что если мозг слишком уж сложно организован, то тогда – меня сразу проклянут все психиатры – мы получим шизофрению.
– При этом многие шизофреники были гениями.
– То-то и оно. Есть в Британии исследователь, невролог и психиатр Тимоти Кроу. Одна из его идей заключается в том, что шизофрения – это плата за язык.
– Не понимаю.
– Когда человечество только начинало развиваться, наш мозг стал переформировываться и специализироваться – скажем, появились зоны, отвечающие за речь. Правое и левое полушария получили собственный набор функций. Появились отделы в мозгу, которые ведают сложными вычислениями, обеспечивающими язык. И вот, если подкрутить слегка эти механизмы, ускорить какие-то процессы, то мы получим шизофрению. Выходит, тот же самый механизм, который вывел нас на речь, на сложные вычислительные процедуры, обеспечивающие появление фонологии, морфологии, синтаксиса – про смысл я вообще не говорю, – приводит нас и к нарушению баланса полушарий.
– Звучит пугающе. Это теория?
– Конечно, но мы в любом случае знаем, что шизофрения – это почти всегда генетика. Можно ввалиться в психическую болезнь из-за трагических жизненных обстоятельств. Но ввалиться просто так в галлюцинации не выйдет. Это уже генетика и нарушение баланса полушарий. При шизофрении полушария превращаются в соседей, вынужденных находиться под одной “крышей”, но бесконечно друг с другом воюющих. Когда одно полушарие начинает брать верх над другим, мы получаем или депрессию, или маниакальное состояние.
– Если об этом известно ученым, то почему с этим невозможно бороться?
– Потому что это вне нашей власти, мы просто не умеем это делать. Теоретически мы можем предсказать что угодно. А практически мозг человека – слишком тонкий и капризный музыкальный инструмент. Шизофрения это даже не пандемия – это планетарная болезнь. В мире нет обществ, где ее бы не было.
– При этом болеют не все. А язык есть у всех.
– Это наша плата не как индивидуумов, а как человечества. Если на это возражать, то я бы спросила, почему мы платим непременно за язык. Скорее это плата за способность адекватно вести себя в обществе, способность к общению. Скажем, аутичные дети живут в своем мире, и им никак не удается войти в контакт с миром, даже если они этого хотят. Но, как правило, они и не хотят. Им незачем.
Нормальные и гениальные
– Есть такой старый анекдот про мальчика, который не говорил до десяти лет, потому что незачем было. Детей, которые долго не начинают разговаривать, можно считать умственно отсталыми?
– У детей очень разная скорость развития. Одни начинают разговаривать рано, другие – поздно. Но если они все-таки заговорили к приемлемому возрасту, то и слава богу. В конце концов, Эйнштейна вообще считали совершенным дебилом, чуть ли не в школе отказывали, а он – Эйнштейн. Поэтому, когда меня студенты спрашивают, в каком возрасте ребенок овладевает чем-то, я отвечаю, что это – неправильно поставленный вопрос. Если уж говорить на эту тему, то надо обсуждать очередность: сначала он этим овладел, потом тем. А в каком возрасте – почти не важно. В мире есть столько детей, которые до трех лет не говорили, а потом стали звездами, что становится ясно: их способности – не вопрос месяцев или лет.
– А как же популярные методики раннего развития?
– Это все очень плохо – любой специалист вам скажет. Нужно оставить детей в покое – пусть развиваются, как развиваются. Ничего хорошего нет в том, что ребенок вылез из матки и тут же начал читать…
– По-вашему выходит, что гениальность – это как-то очень тяжело.
– Гениальность – это патология. С другой стороны, захотев, чтобы не было патологий, а была бы сплошная норма, мы сразу же упремся в несколько тяжелых вопросов. Никто не знает, что считать нормой. Норма всегда – вопрос договора. Скажем, в этом году модно носить мини-юбки, а в следующем – макси. Если я завтра появлюсь на заседании ученого совета, и у меня будет заплетено восемнадцать кос, то это справедливо вызовет вопрос, в своем ли я уме. Я ведь должна понимать, куда иду. Так что речь идет о социальной конвенции. Если вдруг наше общество сознательно или бессознательно пришло бы к тому, что все ходят с косами, то вопрос снят. Еще одна вещь, на которую мы наткнемся, – а хотим ли мы, чтоб была сплошная норма? Ведь это значит, например, отказаться от всех писателей, художников, музыкантов – не от тех, которые просто пером водят, а от по-настоящему креативных людей.
– Мне кажется, мы и так от них отказались.
– Если б рядом со мной сидел, например, мой близкий друг Виктор Топоров, известный рубитель всего на свете, то он бы сказал “не говорите глупости” и привел бы в пример массу людей, которых он считает если не гениальными, то выдающимися писателями. Из них я могу не знать девяносто процентов – но это всего лишь факт моей биографии, тогда как Топоров может быть прав. Возможно, рано говорить о современных писателях. Хотя в начале прошлого века было очевидно сразу, кто гений, а кто так просто. Очень трудно ответить на вопрос, на самом ли деле пошел неурожайный век или это мы не понимаем, что современные писатели говорят нечто такое, что мы пока не осознали.
– Я все равно не понимаю. Был галантный XIX век – вся интеллигенция говорила по-французски. А сейчас – сплошной “албанский” и прочее. За счет каких механизмов язык меняется?
– С одной стороны, язык это такая вещь, которая сама развивается. Он никогда не стоит на месте. Есть у него внутренние свойства, благодаря которым он бесконечно будет меняться и развиваться. С другой стороны, есть и мощнейшее влияние социума. Например, престижность хорошо говорить и хорошо писать, или полное отсутствие такой престижности – что мы сейчас наблюдаем.
– Это тоже вопрос договоренности?
– Отчасти. Либо в стране есть языковая политика, либо ее нет. Скажем, французы имеют очень мощное влияние на то, что происходит с языком. И в Великобритании по-прежнему это есть. Говорение на том или ином варианте английского языка является мощным показателем социального статуса, образования и так далее. Даже в Соединенных Штатах, где все эти языковые дела кажутся не очень важными, людей, закончивших Гарвард, Принстон и другие серьезные университеты, слышно очень отчетливо.
– Там даже в кино постоянно глумятся над акцентом.
– Да, но Америка – это мультиэтническая солянка. И там все же гораздо более мягкое отношение к языку, чем в Европе. Если вы в Европе выступаете в качестве иностранки, гостьи, то вам многое простят. Но если в Англии вы говорите по-английски так, что можете сойти за свою, то вам предложат совсем иную шкалу, и вы начнете проваливаться.
В разных странах существует свое отношение к языку – это уже отдельная область, за которую отвечает социолингвистика. Другой вопрос, что сейчас в нашей стране повсеместно идет снижение стиля. Высокий стиль в русском языке фактически исчез. А все остальное на одну ступеньку поднялось. То, что было средним стилем, стало высоким. То, что было вообще недопустимо, – сейчас уже можно. Как угодно относитесь к этому – в зависимости от степени снобизма, – но это факт.
– Но ведь язык может давать возможность выделиться?
– Конечно, это очень мощная вещь, как одежда или униформа. Говорение на определенном языке формирует группы, и каждая будет дистанцирована от другой. Это как самоидентификация. Поэтому хороший носитель языка – тот, кто чувствует разные его возможности и использует их сознательно. Кроме того, он способен к языковой игре. То есть, допустим, я специально ввожу в свою речь шокирующие элементы, мне это нравится – не важно, играю я или провоцирую. Таким образом, я демонстрирую, что могу пользоваться разными регистрами.
– При этом есть люди, которых наше общество автоматически зачисляет в инвалиды. Это глухонемые, например.
– А кто сказал, что язык – это только вокально-акустические функции? Язык, которым пользуются глухие, – полноценный, с грамматикой, морфологией. Просто он не акустический. Так что и речи быть не может, что глухие интеллектуально ниже нас. Более того, если не обсуждать жестовые языки, я могу привести кучу примеров, когда нобелевские лауреаты были дислексиками или дисграфиками, делали по сорок ошибок на страницу. Попробуйте сделать сорок ошибок – это же специальная работа… Поэтому определенные заболевания такого рода и интеллект – параллельные линии. Может оказаться, что у глухого человека и интеллект плох к тому же. Но никакой причинно-следственной связи с глухотой тут нет.
Необъяснимые животные
– Почему некоторые люди внезапно забывают отдельные слова или вообще перестают говорить?
– У нас есть речевые центры – это зона Брока и зона Вернике, расположенные в левом полушарии. Зона Брока ведает речевой продукцией, а зона Вернике – восприятием. Если они функционируют неправильно, то мы получаем афазию. И это-таки болезнь. Без всяких вариантов. Она просто так не может случиться, поскольку свидетельствует о том, что что-то в мозгу произошло – опухоль, или последствие травмы, или какие-то сосуды пережало. Это медицина, и точка. Просто так язык не забудешь.
– А какие механизмы обеспечивают овладение языком в целом?
– Каждый человеческий ребенок с неизбежностью овладевает своим первым языком. Несознательно, без объяснения каких бы то ни было правил. Генетика у нас такая, что оно само идет, при условии, что ребенок вовремя попал в языковую среду. Татьяна Толстая мне привела в пример очень хороший образ. Вот у вас на кухне есть масса бытовой техники: кофемолка, микроволновка, холодильник и так далее. Все это есть, но заработает только тогда, когда вы на кнопку нажмете. Бытовая техника – метафора генетики. Она так и останется молчаливой, если вы не попадете в языковую среду. Правда, генетика эта – с часовым механизмом. Если вы до определенного момента не нажмете на кнопку, то дальше можете уже не нажимать. То есть можете, конечно, но успех будет очень скромным. Вам никогда не удастся выучить свой первый язык адекватно, если до десяти лет вы не были в языковой среде.
– Значит, правда, что с детьми нужно разговаривать, когда они еще в утробе матери?
– Про утробу – сложный вопрос. Мы не так уж много об этом знаем. Ребенок, конечно, много всего слышит, и какая-то преднастройка на язык у него, вообще-то говоря, идет. А вот насколько он может подготовиться к восприятию уже настоящего языка – это вопрос открытый.
– В мире есть много сказок о том, что дети до того, как начали говорить, понимали язык животных. Есть ли вероятность, что это так?
– Лично я это допускаю. Но у науки серьезных сведений на эту тему нет. Просто не понимаю, как это можно исследовать и доказать.
– Насколько я помню, вы считаете, что мы не понимаем животных, тогда как они нас понимают.
– Это правда. Получается, что тупицами оказываются люди.
– У меня есть собака. Она знает, что конкретные звуки указывают ей на то, что лучше бы сесть или выйти вон. Но как она может понимать то, для чего слова не требуются?
– Что касается слов, я согласна: тут работают условные рефлексы имени Ивана Петровича Павлова. Но в поведении животных есть моменты, которые мы не можем объяснить вообще. Они вдруг чувствуют, что вы собираетесь ехать на дачу, необъяснимым образом понимают, что вы не в булочную выходите, а едете в аэропорт. Животные привирают, у них бывают угрызения совести. Мы это, конечно, переводим на свой язык, но то, что у них есть способности понимать нас, – бесспорная вещь. А то, что мы их не понимаем при этом, – пугает. У меня есть американская карикатура. Там двух обезьян люди обучают каким-то сложным знакам. Перед обезьянами таблицы, за стеклом сидит ученый. И одна другой говорит: “Если бы они не были такими тупыми и могли бы выучить наш язык, то мы бы не тратили время попусту, чтобы выучить все эти знаки”. Чистая правда! Они способны выучиться системе, которую мы им предлагаем, а мы их язык не понимаем.
– Так почему же мы номер один в мире?
– Мы сильно умнее всех остальных – у нас есть мозг, какого нет у других.
– Но вы же сами когда-то говорили, что даже тля может производить сложные вычисления.
– Говорила, и не знаю, что с этим делать. Мы планету оккупировали, всех победили и почти всех уже уничтожили. О том, что мы сильнее и наш мозг мощнее, – бесполезно спорить, потому что это очевидная вещь. Но мы все равно не понимаем, как наш мозг устроен, и я даже в перспективе не вижу, чтобы нам это удалось.
– А зачем это вообще нужно?
– Ну, мы же хотим знать, кто мы такие. Кто кем владеет – мы мозгом или он нами. По всему получается, что он нами. Когда я узнала, что мозг принимает решение за 20 – 30 секунд до того, как мы его “приняли”, это меня сбило с ног.
– То есть люди, которые изучают мозг…
– Должны быстро сойти с ума.
– Дело не в этом. Мне кажется, что они пытаются найти какую-то высшую силу, управляющую нами.
– Не без этого. Подлый мозг мало того, что сам принял решение, он еще и посылает вам сигнал, что вы это решение приняли добровольно и удовлетворены им. Как вам это нравится? Он не только сам решил, он вам еще и голову заморочил. Вы в полной уверенности, что именно вы все решаете, а на самом деле все не так. После всего этого хочется все книжки закрыть и ловить рыбу. Или носки вязать. Это ведь жутковато.
– Так зачем же вы продолжаете изучать все эти процессы?
– Мне интересно. Я это делаю, даже без надежды добраться до истины – в этом смысле я агностик. Когда люди говорят, что через 10 – 20 лет мы узнаем, как мозг работает, у меня это вызывает саркастическую усмешку. Не вижу оснований для этого. Ни одна система не может изучать другую, более сложную. Но именно это безнадежное дело мы сейчас и проделываем.
– С помощью каких опытов?
– Тут есть довольно много всего, и это не обязательно нейрохирургия. Например, существуют поведенческие методы, когда мы предлагаем человеку что-то выполнить и одновременно изучаем его реакции, скорость. Еще есть мозговое картирование, то есть расписывание того, что в какой части мозга и когда происходит. Есть энцефалография, позитронно-эмиссионая томография, функционально-магнитный резонанс. “Функционально” здесь очень важное слово. Потому что если делать просто МРТ, то мы получим, грубо говоря, фотографию, а нам нужно кино, движение. Необходимо видеть, что происходит во время решения задачи, что и когда произошло и в какой части мозга. Это самая красота. Но стоит очень дорого, не каждый может себе позволить в такую игру играть. Также полученные сведения очень трудно дальше интерпретировать. Когда мы знали всего-то, что про две зоны в мозгу, отвечающие за язык, все было в порядке. А как только мы получили современную технику, нам стало только хуже.
– Почему? Ведь должно быть наоборот.
– Мы попали в парадоксальную ситуацию: мы знали про две зоны, отвечающие за язык, и нам было легко. Но, выяснив, что за язык отвечает весь мозг, так и не поняли, что с этим делать. Чем более эффективный инструмент попадает нам в руки, тем, получается, “хуже”. Допустим, вы получите отведение от 500 точек мозга, а дальше что делать? Вроде бы дальше начинается математика. Но тут я выхожу из-за кулис и говорю: “А математика ваша откуда вязалась – вы же сами ее и выдумали. И теперь вы мне будете рассказывать, что это объективные данные?” Я сейчас провокативные вещи говорю, конечно, но я не вру. Самый неприятный вопрос, который я за последнее время получала, – математика, она где? Это объективная внешняя вещь или она в голове? Если в голове, то тогда заканчиваем всё. Сами придумали математику, сами ею обрабатываем данные. Изучаем свой мозг куриными мозгами? О чем тогда может идти речь? Понимаю, что это может отбить желание чем бы то ни было заниматься. Но все на самом деле не так печально.
Сделать Моцарта из ребенка
– Ваши опыты показывают, отдыхает ли мозг?
– Разные люди говорят об этом по-разному, но мой ответ – не отдыхает никогда. По логике он мог бы отдыхать во сне. Но во время сна происходит такое! Идет такая перетасовка всего, укладывание информации в нужные ящики, запоминание того, что нужно, и сохранение про запас того, что вроде бы не нужно.
– А ненужное-то зачем?
– Я стою на позиции, что все, мимо чего вы когда-либо прошли, унюхали, услышали, – сохраняется. Другой вопрос – вынимается ли оно, при каких условиях и когда. Это уже вопрос организации памяти.
– Судя по тому, что вы описываете, наш мозг должен страшно уставать.
– Он устает, и когда спрашивают, бесконечен ли мозг, можно ли его нагружать безгранично, я отвечаю, что нет. Просто в случае с каждым отдельным человеком эта усталость может прийти рано, а может – поздно. Это как с мышцами. Один поднимает не более трех килограммов, а другой – 200-килограммовую штангу. В качестве примера могу привести детей. Амбициозные родители, совершенно не понимая, что может сделать их ребенок, ведут себя подло. Чего сами в жизни не сделали, заставляют делать ребенка. Он почему-то должен выполнять запросы сумасшедшей мамаши – дуры, которая считает, что она родила Эйнштейна или Моцарта, не меньше. Тогда как у нее просто хороший ребенок. Но он сломается, если его перегрузить.
– Возраст сказывается на мозге, он стареет?
– Конечно, как и все остальное в организме. Но он стареет в зависимости от того, чем он занят. Если вы хотите отодвинуть Альцгеймера, то не читайте бездарные дамские романы, а штудируйте древнегреческую грамматику. Мозг должен быть занят трудной работой.
– А как же “многие знания – многие печали”?
– Не беспокойтесь, печали будут с вами постоянно. Но если вы хотите иметь сохранный мозг, он должен быть занят делом. Желательно – трудным. Самая простая метафора: если вы ляжете на диван и будете год лежать, то потом физически не сможете встать. Ваши мышцы забудут, как ходить, как стоять. Абсолютно то же самое происходит с мозгом. Он должен заниматься гимнастикой.
– Что больше тренирует мозг: аудиокниги или обычные?
– Это индивидуально. Одни люди лучше воспринимают информацию, которая идет через глаза, другим нравится слушать. Можно ходить на лекции и усвоить информацию, а можно бездарно тратить на лекциях время, вместо того чтобы прочитать книгу. Никто вам не скажет, что человек, отказавшийся от чтения в пользу аудиокниг, слабее тех, кто читает глазами.
– Мне рассказывали, что некоторые стимуляторы, в частности – ЛСД, помогают тренировать память. Это можно как-то объяснить?
– Конечно, это ведь химический процесс, а мы являем собой химические сосуды. Есть вещества в мозгу, отвечающие за передачу информации и память, – нейротрансмиттеры. Благодаря им всякие лекарства типа ноотропов влияют на память. Что касается наркотических средств, то они тоже могут помочь в тренировке памяти – но какой ценой. Это вопрос личного выбора и вопрос цены – и ценой является ваша жизнь, а вовсе не деньги. Но то, что есть вещества, обеспечивающие худшее или лучшее запоминание, – бесспорная вещь.
– А мнемонические техники – они полезны?
– Конечно. Это дополнительные крючки, с помощью которых вы можете что-то вынуть из памяти. Для памяти важны три вещи: как запомнить, как сохранить и – чрезвычайно важный вопрос – как вынуть. Оно-то там лежит себе, но зачастую никак не вынимается. Я думаю, это все на себе испытали. Вот вы идете сдавать экзамен. И даже при условии, что вы учили, можете ничего не вспомнить. А через сутки выясняется, что все знания в голове у вас улеглись и вы помните все. Почему же вы не смогли вытащить это все из головы в момент экзамена? Для этого и существуют мнемонические правила. Они становятся как бы дополнительными щупальцами, инструментами, с помощью которых вы можете сначала сохранить знания, а потом вытащить их на поверхность.
– Раз вы рассказываете, что даже те, кто учит, могут забыть выученное, я делаю вывод, что к своим студентам вы снисходительны.
– Я ненавижу принимать экзамены и очень снисходительна к студентам, потому что в процессе принятия экзамена есть элемент идиотизма. Сначала я говорю: “Это ручка”, а потом я как будто забыла о том, что сама говорила, и спрашиваю: “Это что?” Со стороны посмотришь – так два дебила беседуют. При этом, когда я сталкиваюсь с человеком, который говорит мне, что он учил, но забыл, я предоставляю ему выбор. Первое: он профнепригоден, тупица, потому что не смог выучить простые вещи. В таком случае ему надо в пельменной пол мыть. Второе, гораздо более симпатичное мне: он врет, что учил. Значит, еще есть шанс, что он все же способен к обучению.
Студенты должны понимать, куда они поступают и зачем. Если они не могут учиться, значит, им предназначена другая и, может быть, гораздо более счастливая, чем у меня, жизнь. Цветы сажать, например.
– Посадка цветов помогает развивать мозг?
– Уверена, что мозг помогает развивать все.
– То есть не только греческая грамматика?
– Я ее привела в качестве экстремального способа развития мозга. На самом деле, все, мимо чего мозг проходит с безмятежной улыбкой, – вредно. А то, где ему требуется сделать серьезное дело, полезно. Если человек осмысленно сажает цветы, думает о том, что он делает, – это полезная мозговая работа.
О влиянии чистописания
– Новые технологии мешают развитию мозга или помогают?
– Мы еще не знаем, как они влияют на мозг. Слишком мало времени прошло, и слишком стремительно они развиваются. Хотя не повлиять на нас они не могли. Постоянная работа с гипертекстами – а интернет это гипертекст – представляет собой другой тип переработки информации, другой тип поступления знаний.
Скажем, когда я училась в школе, у нас чуть ли не три года был предмет, называвшийся чистописанием. Сейчас, когда все используют компьютеры, оно вроде как и не нужно. Но так думать неправильно. Когда вы пишете, вы формируете мозг. Каллиграфия – не развлечение для барышень. Она влияет в том числе и на развитие речи, потому что во время письма работают те же зоны. Исчезновение из школьной программы письма совершенно убьет мелкую моторику и помешает развитию мозга.
– Значит, компьютер в целом зло и мешает нашему развитию?
– Я этого не говорила. Но люди, срощенные с компьютером, асоциальны. Компьютер покорен, он подчиняется вашим действиям – пока, слава тебе господи. А живой человек не будет выполнять всех команд, а вместо этого еще и пошлет подальше. Поэтому зависимые от новых технологий люди превращаются в аутистов, которые не знают, как общаться с миром. Их социум – это дисплей. Сейчас ведь в интернете можно уже и жениться, и любовь крутить. А учитывая, что искусственный интеллект развивается стремительно, холодильники ходят в интернет и сами заказывают продукты, то получается, внешний мир вообще становится бесполезным.
Реальный случай расскажу. Один взрослый умный человек играл в компьютерную игру, и там лягушка должна была в два прыжка что-то перепрыгнуть. Играл он часов восемь. А потом пошел в магазин за едой. Так вот, он не смог перейти Невский проспект, потому что стоял и рассчитывал, как в два прыжка его перепрыгнуть. Еще игры плохи для психического развития тем, что там все обратимо. Там нет смерти, нет страданий, нет переживаний. Вроде помер, но тут же вернулся живым.
– И еще приходится одно и то же проходить по многу раз.
– Именно. Компьютер нам подсовывает неправильные ментальные действия. Там расстановка сил не соответствует тому, как все устроено в мире. Вы в жизни не пройдете один и тот же путь хотя бы дважды.
– Может, люди все это создают, чтобы забыть о том, что мир конечен?
– Это правда, но смерть ведь не отменяется в итоге – вот в чем загвоздка.
– Но может же так случиться, что ее как-то отсрочат?
– Не могу себе этого представить. Я была однажды на “круглом столе” в Москве. Говорили про увеличение жизни до 250 лет – у меня это вызвало смех прямо там. Хорошо, говорю, а мы какую жизнь хотим продлить? Человек уже полностью потерял всякое соображение, и в этом Альцгеймере, полностью немощный, никуда не годящийся, он будет жить 160 лет. Это кому-нибудь надо? Понятно, что мы хотим продлить активный, боеспособный возраст. Но, во-первых, как это сделать. Во-вторых, что делать с вновь нарождающимися. Ведь население планеты бесконечно растет, и если все будут жить по 250 лет, то что они будут есть, пить? Тут много даже не столько биологических вопросов, сколько социальных.
– Так мы и так уже живем дольше, чем наши предки.
– Да, но пока наша жизнь имеет обозримые пределы. Понятно, что каждый хочет жить дольше. Но нужно понимать, как с этой длинной жизнью справляться.
Кто такой “я”
– Ваши исследования имеют практическое значение для людей?
– Еще какое. От того, что мы будем знать, как работает, например, память, зависит, как будут устроены образовательные программы. От того, что мы знаем про мозг, зависит диагностика его заболеваний – нарушений речи, слуха, зрения. Наши знания позволяют помогать людям, у которых уже что-то с мозгом случилось. С какой скоростью и с какой успешностью конкретный пациент вернет себе языковую способность, зависит от того, как мы будем его этому обучать. А как обучать – зависит от того, что мы про это знаем. Так что у науки есть прямое прикладное значение. Не говоря уже о том, что благодаря нейролингвистике можно заниматься созданием систем искусственного интеллекта. Речь не о повторении человеческого мозга – это как раз невозможно, потому что мы не знаем, как он устроен. Речь о замечательных и сложных вещах, помогающих нам жить и изучать мир: электронные диспетчеры, автопилоты, спутники, летающие к Марсу, системы автоматического распознавания или синтеза речи. Так не имеет смысла говорить о деньгах налогоплательщиков, бездарно потраченных на игрушки ученых.
– Эти игрушки все равно очень дороги.
– Да. Но никто не знает заранее, что именно из фундаментальной науки окажется прибыльным в будущем. Думаю, что когда Фарадей играл в свои игрушки, ума не мог приложить, что потом придет Чубайс. Ученые, конечно, играют в свои игры, потому что им интересно узнать, как устроена та или иная машинка. Но другие люди благодаря этим, абсолютно теоретическим знаниям получают нечто, что технологически меняет планету. Скажем, появляется интернет. Поэтому умные страны должны финансировать фундаментальную науку. Они должны понимать, что необходимо вкладывать деньги в то, что вроде бы не дает прямого прикладного выхода. Но это оно сегодня не дает, а послезавтра может спровоцировать такое! В некоторых японских фирмах содержат, к раздражению всех остальных работников, полусумасшедших людей, которые, получая очень большие деньги, задают глупые вопросы, бесконечно пьют кофе, везде лезут и всем уже страшно надоели. Но, походив так года три, они вдруг изобретают нечто, что приносит фирме доход в десять миллиардов долларов. Потому что эти с виду придурки – по-настоящему креативные люди. Так что мудрый правитель должен содержать таких людей.
– В таком случае, любые разговоры о норме надо запретить.
– Не запретить, а повернуть в другую сторону. Если все будут солдаты и нормальные, то мы отказываемся от любых прорывов в науке, искусстве – во всем. Если посмотреть, кто эти люди, совершившие прорыв в разных областях, то “здоровых” мы среди них почти и не найдем. У меня есть знакомый физик, очень крупный ученый, работает в Принстоне. Я даже удивлялась, что он до такой степени нормален. Так вот он любит бегать. Но как! Он когда летит через океан, взад-вперед бегает в самолете по проходу. Это же психическая болезнь в чистом виде.
Так что любая крупная одаренность, разумеется, находится вне нормы по определению. И если среди просто хороших ученых еще попадаются психически здоровые, то гениев без придури я себе представить не могу. Один поет, другой селедку варит, третий никак не может выбрать пиджак.
– Может быть, вся эта придурь выступает в качестве разгрузки для их мозга?
– Я могу это допустить. Но мы понятия не имеем, как это все происходит и как получаются гении. Хотя одно знаю четко – узкое образование гениальности только вредит. Если математик не будет ничего знать про поэзию или музыку, у него не появятся те ассоциации, которые и приводят к открытиям. И провидческие сны абы кому не снятся. Как я говорю студентам, Периодической системе так надоело, что Менделеев с ней столько времени возится, что она решила ему присниться – пусть успокоится уже. Мозг его уже все давно сделал и решил донести это дело до Менделеева.
И это очень страшно. Ведь, говоря “я придумал периодическую систему” или “я принял такое-то решение”, мы совершенно не представляем, кто такой этот “я”.