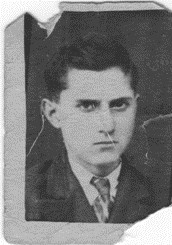Сейчас странно и страшно думать о чём-то, кроме того, чтобы боевые действия поскорее прекратились и не переросли, не дай бог, в нечто большее.
И всё же не могу заставить себя не размышлять о том, почему всё это случилось и как сделать так, чтобы этого не повторилось впредь.
Не только потому что происходящее – колоссальный интеллектуальный и нравственный вызов всем людям, у которых в голове осталась хотя бы унция мыслящего вещества, а в душе – хоть малая частица сострадания к тем, кому плохо, – тем более плохо, пусть и в очень условной степени, но всё же как бы и по твоей вине.
Дело ещё в том, что я – не только человек, который, приехав в Ленинград 11-ти лет от роду, сразу почувствовал этот город «своим» и с 17-ти лет, когда я поступил в Ленинградский педиатрический институт, сознаю себя петербуржцем. Помимо приобретённой петербургской идентичности, у меня есть и другие, более глубокие, врождённые семейные корни, которые никогда во мне не умирали….
В моём советском паспорте под пресловутым «пятым пунктом» значилось: «украинец». Мой отец – уроженец посёлка Теплик Подольской губернии Петро Панасыч Коцюбинський, – пока не поступил после школы в Индустриальный техникум в казахстанском городе Чимкенте, не знал ни слова по-русски. И хотя позднее, став уже Петром Афанасьевичем Коцюбинским, говорил без малейшего украинского акцента, родной язык никогда не забывал…
- Мой отец – П.А. Коцюбинский (1919 – 1991), на фото ему 17 лет
После возвращения из Казахстана (где мои родные, спасаясь от Голодомора, оказались ещё в начале 1930-х) в 1958 году мои родители и бабушка с дедушкой поселились в Полтаве. Там я их навещал каждое лето, пока в 1980-х мать и отец не перебрались к моему младшему брату в Галичину – в Ивано-Франковск. А неподалёку от этого города (в ту далёкую пору называвшегося Станиславом), куда в конце 1930-х послали служить моего отца, я и родился в мае 1941-го в небольшом городке под названием Галич.
- Город, где я родился – Галич (Украина) в первой половине XX в.
Оттуда моя мать бежала со мной от наступающих немцев. Отец воевал с первого дня. В 1942-м оказался в Любанском котле вместе со 2-й ударной армией и попал в плен, был в лагере смерти Маутхаузен. Чудом выжил и вернулся в 1945-м…
- Я с мамой – Августой Александровной Коцюбинской (1920-1989), на фото мне – 1,5 года. Алма-Ата, конец 1942 г.
Рассказываю всё это, чтобы было ясно: Украина для меня – не «соседняя страна», а украинцы – не представители «братского народа». Это моя родина. Это мои родственники, огромная родня моего отца. Это моя семья. И сегодня мой племянник, его дочери, его внук – все живут в Полтаве. Брат, хотя и перебрался жить и работать в Испанию, все равно регулярно бывает в Ивано-Франковске…
Поэтому то, что скажу далее, я хочу сказать именно как украинец, а не просто как сторонний петербургский наблюдатель. И ещё я буду говорить как человек, более 55-ти лет проработавший психиатром…
Сегодня происходит колоссальный социально-психологический разлом.
Разлом происходит не только между изначально разными по своим политическим пристрастиям людьми. Разлом происходит внутри семей и даже внутри сознания отдельного человека. Мы перестаём слышать или даже просто слушать друг друга.
В результате – перестаём критически осмысливать поток информации, локализуя его каким-то узким ручейком «удобного» для нашей трактовки изложения событий, поскольку вся наша подсознательная психологическая защита сейчас психопрофилактически направлена на поиски объяснения сложного явления – простой формулой. В свою очередь, это вызывается необходимостью уменьшить внутреннее напряжение и даже страх, не допустив формирования когнитивного диссонанса. Мы ищем единственный источник трагедии. А истокам этой трагедии уже очень много лет. И истоки эти, на мой взгляд, нужно искать в нашем имперском самосознании.
Родившись незадолго до Великой Отечественной войны на берегах Днестра, я свои школьные годы провёл в южно-казахстанском городе под названием Чимкент (теперь – миллионный по количеству населения Шымкент).
- Послевоенный Чимкент – город, где прошло моё детство
Исторически сложилось так, что в этом городе было много русских (в том числе каких-то по внешнему виду дореволюционных интеллигентов), украинцев (после голодомора в 1932 – 1933 годах) и евреев (не знаю, по какой причине), ссыльных греков (после 1949 года) и, наконец, какое-то количество казахов (до революции это был вообще-то узбекский город, находящийся от Ташкента всего в ста километрах).
- За три дня до окончания войны мне исполнилось 4 года
Но все, в том числе казахи, обучались в русских школах (на весь город была лишь одна казахская школа). Было ли среди нас, детей, интернациональное согласие? Не очень. Фактически «на равных» общались русские, украинцы и греки. Быть евреем («хитрым, трусливым, себе на уме, стремящимся к лёгкой работе и обману других») было непрестижно. А вот к казахам и прочим тюркам (созвучное и общеизвестное оскорбительное прозвище приводить не стану), было покровительственно-пренебрежительное: «старший брат – младший брат». И это несмотря на то, что официально по умолчанию первые места в государственно-партийных структурах должны были занимать именно казахи. Все с этим соглашались как с некоей необходимой данностью, камуфлирующей истинное снисходительно-ироничное отношение к роли казахов в государственной жизни: «одна палка – два струна, мен хозяин вся страна».
Для нас казахи являлись просто «отсталым народом», без исторической государственности и даже письменности, великого Джамбула мы знали лишь по переводам поэта Кузнецова, и что там в действительности изрекал Джамбул – оставалось неизвестным, а оперная казахская певица была лишь в единственном экземпляре – Куляш Байсеитова.
- Джамбул (1846 – 1945), Куляш Байсеитова (1912 – 1957)
Я отчётливо помню, как в этой «интернациональной» атмосфере проходили у нас уроки казахского языка (у меня они были в 5-6 классах, затем их отменили). Преподавала высокая, худая и, по всей видимости, одинокая и не очень успешная Гайша Садыковна. Изучать казахский язык считалось чем-то искусственно навязанным и абсолютно ненужным, поэтому (а школа была мужской) мы все орали, безобразничали, смеялись чуть ли не ей в лицо, издевались. Ничего подобного наш класс не позволял себя ни с одном другим преподавателем. Гайша Садыковна должна была ненавидеть нас. Но она терпела, сносила все издевательства, приходила и продолжала учить. Сейчас я в ужасе от себя же в детстве, от своего ни на чем не основанного ощущения «превосходства», от внутренне снисходительно-пренебрежительного отношения даже к русифицированным казахам, с которыми общался. При этом я считал себя очень благородным, по сравнению с другими европеизированными ребятами, которые «не опускались» до неформально «равного» общения даже с хорошо говорившими по-русски сверстниками-казахами. И не понимал, что фактически представлял собой слепок маленького расиста.
Позднее эту же позицию «старший брат лайт» я увидел в глухих отголосках российского великодержавного шовинизма (расизма по сути) в Украине, где бывал на протяжении 1960-1980-х гг. каждый год, иногда по несколько раз. Формально, как и в Казахстане, соблюдался декорум «интернационализма». Время по полтавскому радио объявляли по-украински, вывески – «Перукарня», «Їдальня», названия улиц и т.д. – тоже были украинскими, издавались книги на украинском языке. Но телевидение, радио, вся серьёзная официальная информация, все официальные выступления – всё шло на русском. Украинский язык оставался чем-то вроде локально-этнографической, а не полноценной общественно-культурной реальности. Сразу скажу: я – категорический противник насильственного подавления или «принижения» русского языка, как и любого языка, на котором привыкли массово разговаривать люди в том или ином городе или регионе. И когда мой брат, владеющий украинским языком хуже, чем русским, – врач-стоматолог – был вынужден в 1990-х гг. уехать из Ивано-Франковска потому, что ему запретили читать лекции в медицинском институте на русском языке, которые он до этого времени прекрасно читал, и студенты его понимали, – я был и огорчён, и возмущён. И мои оценки с тех пор не изменились, тем более, когда речь заходила о положении с русским языком в преимущественно русскоязычных регионах Украины…
И всё же, думаю, не только националистические перекосы в действиях украинской стороны (которые со временем вполне могли начать выравниваться), но именно исходное ощущение «российского старшинства» не позволило нашей дипломатии выстроить достойные и уважительные отношения с нарождающимся новым государством под названием Украина.
На мой взгляд, это лишь стимулировало усиление панукраинских тенденций и «скукоживание» русского языка в Украине. Фактически великодержавный шовинизм (резко усиленный на протяжении последних восьми лет нашими ведущими пропагандистами) способствовал, по моим наблюдениям, – в качестве «ответки» – не ослаблению, на напротив, нарастанию искусственной украинизации русскоязычных регионов Украины и «приказной» вторичности использования русского языка в них, что крайне затрудняло формирование федеративного нарратива в этой многонациональной и многоконфессиональной стране. В результате – вместо «Соединённых штатов Украины» – её возможной федерализации, о чём лично я всегда мечтал, – появился нарратив о «единой украинской нации» (состоящей из украинцев, русских, крымских татар, евреев и некоторых других народов), которая «противостоит российской агрессии» и воспринимает всё русское как враждебное…
Я не снимаю с себя ответственности за то, каким я был когда-то «советским имперцем», но при этом сознаю, что если я сам смог преодолеть, во многом благодаря жизни в Петербурге, эти свои исходные и, в общем, постыдные, установки, то это же может сделать и любой другой человек. Надо просто решиться назвать вещи своими именами. Расизм – расизмом, национализм – национализмом, великодержавный шовинизм – великодержавным шовинизмом. И не придумывать декоративных эвфемизмов. Не подменять одни слова – другими.
Александр Коцюбинский, доктор медицинских наук, профессор психиатрии