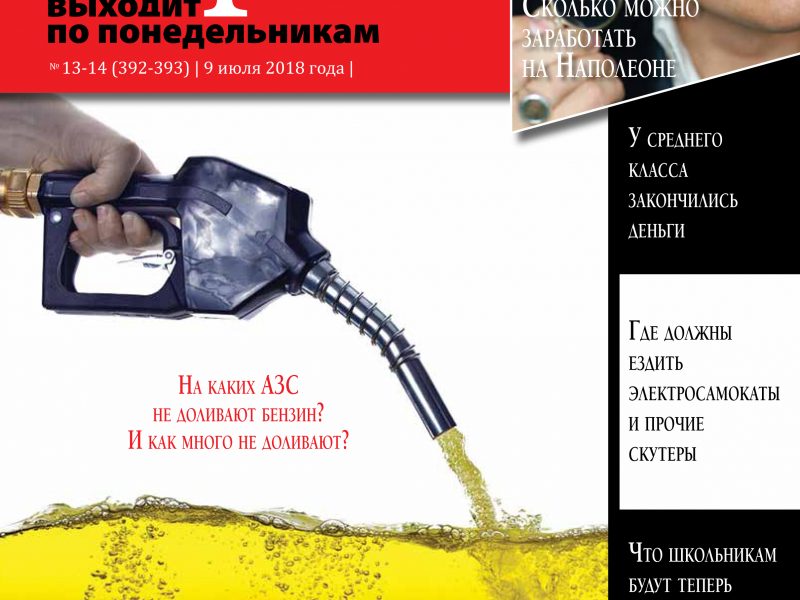Русский перевод нового романа голландского слависта и писателя Кейса Верхейла «Соната «Буря» вышел в издательстве журнала «Звезда», а сам автор воспользовался ее презентацией как поводом, чтобы отметить в Петербурге свое семидесятилетие.
Если не знать предыстории, важность этого события для русской словесности уловить трудно. А предыстория между тем интересная. Верхейл регулярно бывает в Петербурге с середины 60-х. Близко дружил с Бродским. Писал об Ахматовой, Мандельштаме, Анненском.
Проза Верхейла написана так, что обладает сразу двумя оригиналами: голландским и русским. В первом романе “Вилла Бермонд” странным образом сочетаются сцены из жизни русского поэта Теодора Тютчева, рассказ об угасающем в Ницце в 1865 году цесаревиче Николае Александровиче и повествование о собственных детских годах в Голландии. Новая книга Верхейла продолжает эти темы, в том числе и тютчевскую. Тютчевская линия даже некоторое время препятствовала публикации романа в России, потому что редакторы были немало скандализированы странной фантазией автора: на страницах “Сонаты “Буря” молодой Тютчев мастурбирует…
– Кейс, первое впечатление от вашей прозы выражается словами “я давно не видел такого по-русски”. Она настолько хорошо переведена, что, учитывая русский антураж происходящих в книге событий, долго отказываешься видеть в ней перевод.
– Так и надо было. Это действительно особый перевод. Во-первых, конечно, следует отдать должное профессиональным качествам переводчицы Ирины Михайловой, но над переводом мы работали вместе – то есть переводит она, а потом я читаю, и мы подробно обсуждаем чуть ли не каждую фразу. Действительно выходит, что русский перевод – это не русский перевод, а русский вариант книги. И на самом деле, хотя я ее целиком написал сначала по-голландски, и она вышла в голландском издательстве несколько лет назад, для меня лично перевод – это одновременно и окончательный первоначальный текст. Потому что подсознательно это уже как бы было написано по-русски.
– Вы любите Россию?
– Да, абсолютно.
– А за что вы ее любите?
– Это другой вопрос. На этот вопрос у меня по мере течения жизни было масса разных ответов, что на самом деле означает, что у меня ответа нет. То есть для меня самого это загадка. Я могу гадать о том, что меня так привлекает в России, но я не знаю. Может быть, это главная загадка всей моей жизни.
Вообще если человек может с легкостью ответить, откуда его любовь, то скорее всего это не будет настоящей любовью. Любовь проявляется, когда человек начинает ругаться и говорить гадости, которые годятся скорее для того, чтобы обосновать ненависть. Тогда видишь, что любовь настоящая.
– Тогда вопреки чему вы любите Россию?
– Вопреки тому, что в России трудно: русским в первую очередь, но и иностранцам тоже; вопреки несчастному ходу истории, страшным историческим катастрофам, вопреки невзрачной природе, которая не впечатляет так, как швейцарская или итальянская.
Но что меня привлекало с самого начала – это загадочность, с которой я вырос. Я рос в годы Второй мировой войны и в начале холодной войны, и тогда в газетах, по радио, в разговорах взрослых речь постоянно шла о России: о том, что там происходят какие-то очень важные события, которые нас тоже касаются, но никто в России никогда не был, никто никогда не видел ни одного русского. Эта загадочность меня очень притягивала: а что это на самом деле за страна?
– И когда вам удалось в первый раз сюда приехать?
– В 1962-м.
– Страшно было?
– Нет, я не из тех людей, кто может испугаться. Была экзотика. В том смысле, что машин не было. Москва была первым городом, в котором я побывал: никаких машин, большие широкие улицы. Трудно было встречаться с людьми, люди предпочитали держаться в стороне от иностранцев. От этого недоверия было неприятно. Но что сильнее всего на меня действовало в России в 60-е годы и потом, так это то, что Россия во многих отношениях была очень похожа на то, как выглядела Голландия в 1945 – 1947 годах. Это была послевоенная Голландия, где тоже не было машин на улицах, где тоже были развалины в центре города.
– Продленное посттравматическое состояние?
– Именно. Продленное с детства. Может быть, в этом и кроется разгадка: через Россию я всю жизнь был реально связан с тем, что у меня происходило в детстве.
– Сейчас-то происходящее здесь уже не должно вам нравиться.
– Это смотря по настроению. В самом начале был соблазн так думать, хотя я, конечно, умом понимал, что перемены принесут пользу здешнему народу и что не надо романтизировать прошлое. Я думал, что, наверное, больше не стану сюда ездить, потому что отпадает этот магический ореол. Но оказалось, что в течение тридцати лет моя любовь, изначально основанная на ностальгии, приобрела настолько реальное измерение благодаря личным знакомствам, что перемены никак не могли на это повлиять.
– Ваша вторая книга, “Соната “Буря”, испытала сложности при публикации на русском языке. Препятствием послужила сцена мастурбирующего Тютчева, которая, по мнению редакторов, оскорбляла классическую русскую литературу. И вы даже написали предисловие, в котором будто оправдываетесь за эту сцену. Как думаете, откуда такое ханжество в стране, где одним из любимцев читающей публики является Владимир Сорокин, у которого героям и мастурбировать-то некогда, потому что у них куда более серьезные сексуальные увлечения?
– Во-первых, я наблюдал, что там действительно что-то серьезное происходит, потому что почти все русские читатели, которым я давал читать первоначальную версию, реагировали так же: возмущались, испытывали отвращение именно из-за этих сцен. И это были не те люди, от которых я бы этого ожидал. Вовсе нет.
Почему так? Во-первых, я думаю, что если бы это написал и опубликовал русский человек, реакция была бы другая, чем когда пишет иностранец. Из-под пера иностранца такие страницы воспринимаются как надругательство над “нашей святыней”. Во-вторых, как сказала мне одна московская редакторша, которая в принципе готова была опубликовать это в своем журнале: “Если бы это было не про Тютчева, я бы сразу же взяла”.
– Про Пушкина, значит, можно?
– Нет, если бы это было не про нашего любимого великого писателя. Если бы это был вымышленный персонаж, тогда бы ничего страшного. И наверное, действительно Тютчева это касается в большей степени, чем Пушкина. Про Пушкина известно, что он был легкомысленный человек…
– Похожая история произошла недавно с Чеховым. Известно, что его письма в академическом собрании опубликованы с купюрами. Оттуда изъят весь мат и более-менее откровенные сексуальные подробности. Человеком, который эти купюры в своей биографии Чехова восстановил, был Дональд Рейфилд.
– Я читал его книгу и высоко ее ставлю.
– На Рейфилда обрушилась буря негодования. Но прошло пять лет, и сейчас в связи со 150-летним юбилеем классика многие публикации и телепередачи построены ровно на том, что в письмах Чехова есть купюры, а в купюрах содержится то-то, и то-то, и то-то. Здесь, видимо, важно, сломать какой-то запрет, и первый, кто это делает, попадает под мощную струю критики, а затем его слова становятся общим местом. После публикации вашей книги следует ожидать большого интереса к жизни Тютчева?
– Я надеюсь, что примерно через те же пять лет произойдет второе издание книги – уже в полной версии.
– А сейчас выходит урезанная?
– Да, кое-что я убрал, меня попросили, и я согласился, потому что я думал, что, если я оставлю все как есть, книга не встретит настоящего резонанса у людей, которым в принципе будет интересно ее прочитать. В Голландии, где фигура Тютчева мало что значит, никто не обращал особого внимания на эти сцены, и когда я спрашивал читателей о впечатлениях, мне говорили: да, понравилось, было интересно. Когда я рассказывал, что это вызвало огромное возмущение у русских читателей, они начинали смеяться.
– Возможно, это объясняется тем, что русская литература XIX века перестала быть частью жизненно востребованной культуры, с которой находишься в постоянном контакте – как, скажем, 20 лет назад люди жили в постоянном контакте с Высоцким: его цитировали, слушали, и никого особо не интересовало, был он алкоголиком или не был. Писатели XIX в., напротив, постепенно мумифицировались, средний русский читатель не имеет их больше в виду. С этим, быть может, и связана такая болезненная реакция: любая живая деталь приближает их обратно – и тогда над ними надо думать, соотносить себя с ними, а это лишняя работа, читателю не хочется этого делать.
– Возможно. Вокруг русской классики всегда существовал агиографический ореол, особенно, конечно, в XX веке, когда при коммунизме пропала религия как таковая: писатели стали святыми. Принято было воспринимать их как иконы, символы чего-то высоконационального и духовного. Может быть, это травма – читать, как вокруг такой иконы завязываются какие-то эротические сюжеты. Но в отличие от истории с Чеховым, где имела место настоящая биография, то, что я рассказываю о Тютчеве, – выдумки, и я откровенно об этом пишу. Это не биография и даже не псевдобиография – это фикция, роман, основанный только отчасти на биографии.
– Почему вы решили сделать центральной фигурой именно Тютчева? В среднем читательском сознании он, кажется, перестал быть центральной фигурой. А что вас в нем привлекло?
– Сила мысли, сила языка. И сочетание романтизма с чем-то, что перекликается с XX веком: с одной стороны, это человек XIX века, а с другой стороны, его ведь начали оценивать в России только посмертно: Тютчева открыл Серебряный век. Все тогда сходили от него с ума – от Брюсова до Набокова.
Я надеюсь, Тютчева перечитают новыми глазами, потому что в культуре все время происходит возвращение к фигурам, содержащим в себе нечто вечное. Такие фигуры способны воскрешаться в другие исторические моменты, и тогда к ним начинают подходить как-то по-иному. Возможно, моя книга находится на стыке таких периодов: времени, когда еще подходят по-старому, и нового времени, которое еще не наступило, когда к Тютчеву будут подходить как к современнику в XXI веке.
– Все перечисляемые вами фигуры – петербургские. Это неспроста?
– Хотя я не считаю себя питерским в том смысле, что для меня не существует остальной России, но ощущение какого-то родства именно с петербургской струей в русской литературе есть. Но и Москву я тоже люблю. И есть ведь еще третья Россия, к которой я привязан, – провинция. Я заметил, что для людей, которые живут в столицах, остальной России как будто и не существует, и если они куда-то едут, то обязательно в Париж, а не в Томск и не в Тулу.
– То, что вы празднуете свое семидесятилетие в Петербурге, – это случайно так получилось?
– Я вообще люблю отмечать дни рождения не дома, а где-нибудь в далеких краях. И есть еще своеобразная психологическая причина: когда я родился в начале февраля 1940 года, в Голландии было двадцать градусов мороза. И вся переписка – а мои родители сохранили все письма, которые им написали тогда друзья и родственники, – переполнена описаниями этой чудовищной погоды: снег и морозы, снег и морозы. Так что я подумал, что для того, чтобы повторить картину своего рождения, я поеду в Петербург.
– В последние два месяца у нас в городе говорят только о том, что такого снега не было уже очень давно. Теперь мы знаем настоящую причину.
– Да. Это повторение, буквальное повторение ситуации моего рождения.