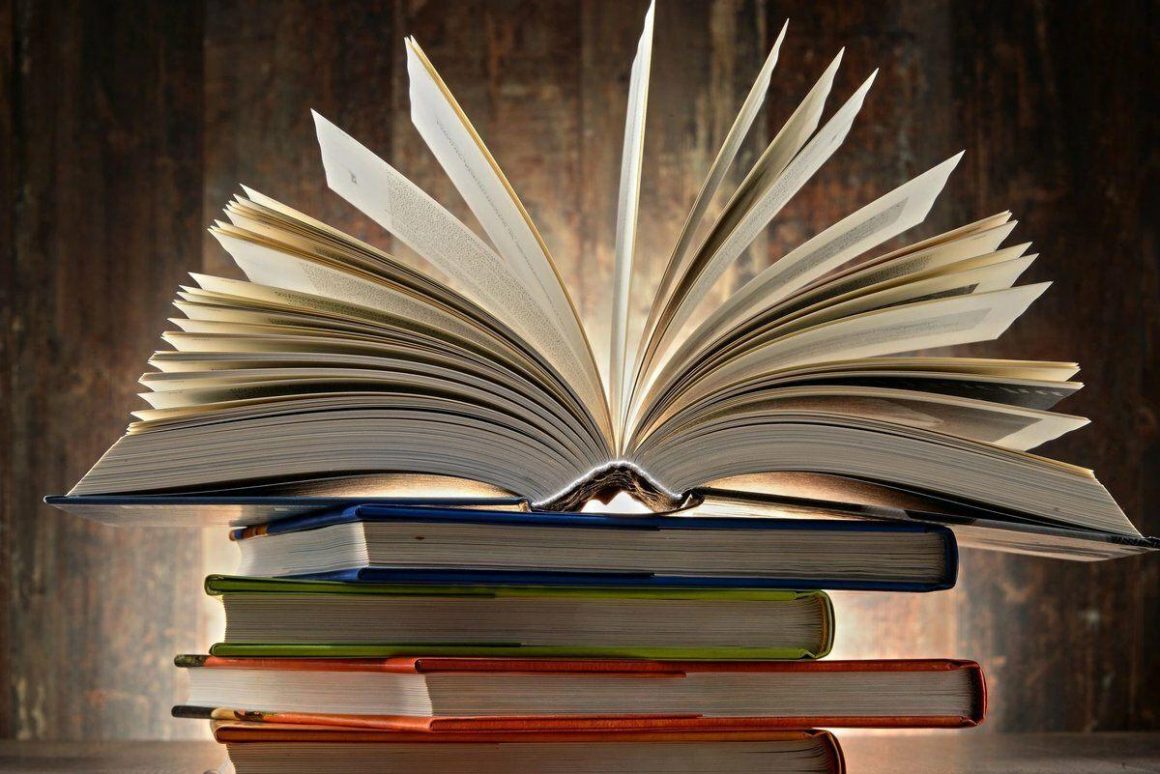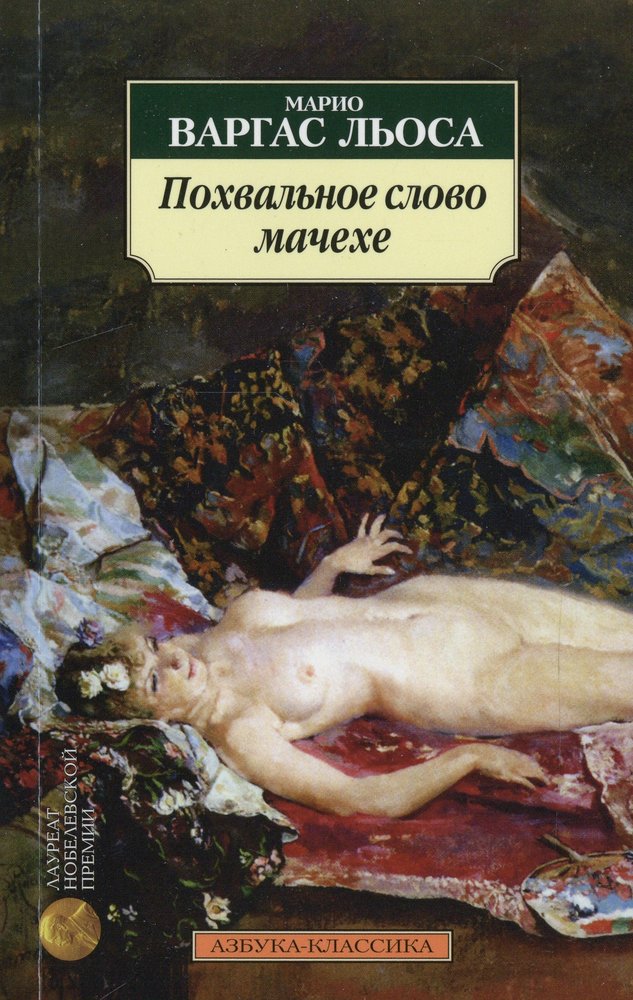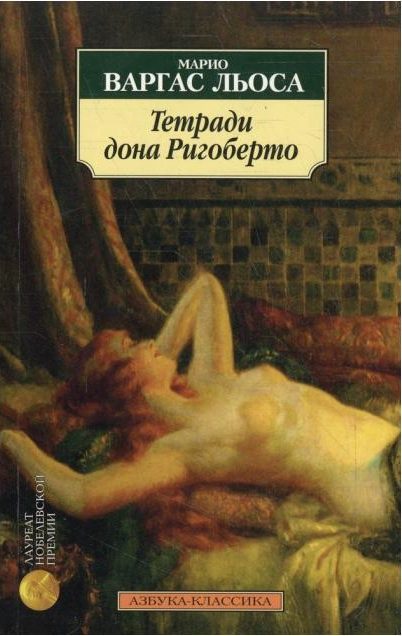Еще раз о нобелевской премии по литературе
.
Попытаюсь вообразить себя немолодым интеллигентным человеком. Это трудно, но я постараюсь. Итак, я родился при культе личности, расцвел при волюнтаризме, зрелость моя пришлась на застой, под его игом я сделал неплохую научно-техническую карьеру, но не забывал и о культуре.
Когда интеллигенция делилась на большинство, выписывающее «Новый мир», и меньшинство, выписывающее «Иностранку», полупридушенную братскими прогрессивными авторами, я старался поглядывать во все стороны и вздыхал, что будь у нас свобода культуры, какими бы сокровищами духа мы упились!
Тем не менее, я прочел и Ремарка, и Хемингуэя, и Кафку, и Сартра, и Камю, и Пруста, и Фолкнера, и Акутагаву, честно побарахтался в Джойсе, а кое-кого из перечисленных даже приобрел за десятку на черном рынке при «Водоканале». Но все-таки моя научно-техническая душа больше тянулась к Айтматову, к Белову, к Тендрякову, к Гранину, к Распутину, к Шукшину, к Трифонову, к Грековой — сейчас уже и не припомнить, но всегда было, что обсудить на работе. О, вспомнил: самая длинная очередь стояла за «Бессонницей» Крона: это же все было про нас.
Потом пришла свобода, как водится, нагая, и, до тошноты упившись ее наготой, я наконец снова обрел сравнительно тихую заводь, вернее, целых три: теперь я работаю в трех местах, зарабатываю, если измерять в бутылках водки, намного больше прежнего, — лишившись, однако, важного советского преимущества — возможности в рабочее время жить духовной жизнью.
И все же я выловил из воздуха, что русская литература каким-то образом исчезла вместе с советской властью, что читать теперь нечего, и меня это устраивало: раз уж все равно нет для чтения ни свободного времени, ни свободной души, ни, пардон, свободных денег, так лучше уж верить, что я ничего от этого не потерял. Но теперь, когда у меня появилось и кое-какое свободное время, и кое-какие свободные деньги (хоть та же пенсия), и даже кое-какая свободная душа, я отправился в пышный храм книжной торговли, заставленный и заложенный такими баррикадами роскошных книг, какие при старом режиме и присниться не могли. Ведь раньше в твердом переплете вообще расхватывалось все, лежали только сочинения из братских республик да брошюры типа «Как бороться с огнем», а тут кладки самых образованных иностранцев… И все бестселлеры, бестселлеры!
Без посторонней помощи в культурных людях никак не удержаться. Раньше можно было ориентироваться хотя бы по советской печати: все стОящее она непременно обругивала, а сейчас писатели что-то вроде пишут, за что-то дают премии, но именно на премированные книги критика и накидывается особенно яростно (не просто книжка так себе, но именно дерьмо!), в противовес превознося каких-то других незнакомцев. Раньше-то какая-нибудь Ленинская премия для нас ровно ничего не значила, мы были сами с усами, если ее получал тот, кого мы не любим, мы лишь презрительно усмехались: это в экономике, в идеологии вы хозяева, а в культуре хозяев нет. Хочешь попасть на Олимп — очаровывай нас собственными силами, поддержка начальства лишь роняла писательский авторитет.
Однако первичный-то отбор делала все-таки критика: кого она ругала, в того следовало хотя бы заглянуть. Но что читать сейчас, когда нет никого, кто не был бы обруган последними словами? Незапачканными оставались только писатели западные, ибо российская критика била исключительно по своим. Но как выбрать двух-трех из сотен и тысяч безупречных? Эврика! Есть же высший знак качества — Нобелевская премия!..
И сомкнутые книжные ряды тут же выпустили мне прямо в руки небольшую книжку с роскошной нагой красавицей на мягкой обложке — Марио Варгас Льоса «Похвальное слово мачехе» (СПб, 2011). Аннотация на обороте разъясняла, что «Нобелевка» 2010 года была присуждена «за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения». Восстание и поражение — это прямо про меня!
Я, разумеется, слышал это имя — Варгас Льоса, но я думал, он братский и прогрессивный, а он, оказывается, хоть и перуанский, но «всемирно известный»! Дождавшись свободного вечера, я взялся за «Мачеху» с некоторой осторожностью: с нобелиатами не забалуешь, в отличие от обычных писателей не ты им, а они тебе выносят приговор.
Начиналось без затей, типа «Я ехал на перекладных из Тифлиса»: «В день своего сорокалетия донья Лукреция нашла у себя на подушке записку». От совсем юного пасынка. Он поздравлял ее с днем рождения и обещал учиться на отлично: «Ты самая добрая и самая красивая, и я каждую ночь вижу тебя во сне». Но когда она, растроганная, приходит поцеловать его на ночь, ангельски красивый мальчик Фончо начинает ее целовать с такой виртуозной невинностью, что по ее телу пробегает что-то этакое, «она пылает с головы до ног и увлажнена». Далее она идет в спальню к папе ангелочка — дону Ригоберто: «Ей показалось, будто удар бычьего рога пробил ее до самого сердца» — вот оно, восстание и поражение!
— Ты была женой царя Лидии, любовь моя! — грянул, проваливаясь в забытье, дон Ригоберто.
И тут же новая глава — «Кандаул, царь Лидии», где почти библейским слогом описывается главная царская гордость — круп его жены Лукреции, которым царь услаждается на глазах своего министра, и стилизация под древность достойна пера Анатоля Франса и Сарамаго — оно спокойнее, когда нобелиаты напоминают друг друга. Правда, вставные новеллы у Варгаса Льосы для еженощного соития, сам себе и драматург, и исполнитель, сочиняет изысканно порочный дон Ригоберто, каждую среду тщательно очищающий свои огромные уши от всего неэстетичного (волоски) и мешающего внимать музыку любви (сера): он уже заранее слышит «тихое урчание скопившихся газов, веселое потрескивание, зевание и клекот влагалища, истомное потягивание змеи ее кишечника» — он научился вожделеть «к любой из бесчисленного множества клеточек ее тела».
Невинность сыночка оказывается тоже действенным орудием. «Его осмелевшие губы стали настойчивей, и тогда она разомкнула уста и впустила к себе проворную трепещущую змейку… Не оттолкнула она и руку мальчика, внезапно оказавшуюся на ее груди». Снова восстание и поражение: «Она мягко и плавно, словно боясь сломать его, привлекла пасынка к себе и опустилась на кровать, распахнула халат, подняла рубашку и теперь уже нетерпеливой рукой направила его, указала ему путь».
И это был путь к новому семейному счастью: «Любовь к дону Ригоберто стала еще сильней… Она не чувствовала ни стыда, ни угрызений совести и не казалась себе циничной развратницей… Необъяснимая гордость охватила ее».
«Свои пороки надлежит носить с достоинством, как мантию монаршью», — гласит эпиграф к «Похвальному слову», однако у мачехи достоинства не хватило (главку «Лабиринт любви» вследствие ее не поддающейся пересказу изысканности пропускаю). Крошка-сын внезапно спрашивает: «Что такое «оргазм», папа?». Мамочка-де ему сказала, что испытала оргазм необыкновенной силы. А чтобы папа перестал блеять нечто путаное, невинное дитя приносит ему свое сочинение, где все расписано во всех подробностях. И утонченный эротоман в отчаянии начинает представляться себе отшельником, живущим в целомудрии и чистоте…
А в следующей главке целомудренная девушка с изящной простотой повествует о том, как дивно прекрасный розовый юноша ведет с нею загадочные разговоры о том, что ей будут молиться люди на всех языках, — девушку зовут Мария.
И вот в эпилоге горничная Хустита укоряет маленького демона, что из-за него отец выгнал мать из дому и сам мается, как грешная душа в аду, но невинное дитя снова оскорблено до слез — ведь они сами всегда учили его говорить правду! Он и на этот раз скажет правду: он все это затеял, чтобы «мы остались втроем — папа, я и ты… Потому что я тебя…»
Горничная почувствовала, что губы Амурчика прильнули к ее рту, и в ярости выбежала из спальни, провожаемая «безгрешным детским смехом».
Да-а, это действительно качество продукции — Астафьеву с Трифоновым в жизни такого не сочинить, если бы даже им взялись помогать Шукшин с Айтматовым! Тут тебе сразу и восстание, и поражение, не хватает только структуры власти.
За структурой я снова отправился в книжное капище и обрел еще одну книжку нобелиата-виртуоза — «Тетради дона Ригоберто» (СПб, 2011) (рынок-таки покончил с книжным дефицитом, всех наших классиков, за которыми прежде гонялись, можно приобрести в «Подержанной книге» по цене чашки кофе).
«Тетради» несчастного дона начинаются с «Возвращения Фончито»: златокудрый ангелочек приходит на коленях просить прощения у изгнанницы-Лукреции, живущей вдвоем с верной Хуститой, и Лукреция не может противиться клятвам и мольбам, а еще более золотым локонам и голубым жилкам на шейке: может, он и правда не ведал, что творит? И Фончито начинает регулярно забегать к ним поговорить о художнике Эгоне Шиле, чьи жизнь и творчество невольно наводят на всякие возбуждающие пикантности.
Несчастный же обманутый дон Ригоберто непрерывно пишет блещущие умом и эрудицией никуда не отправляемые гневные письма против убожества современной жизни, в которой нет места ни высокой красоте (в моде произведения искусства, которые каждый может изготовить сам, то есть «дерьмо»), ни роскошному пороку (в этом убогом мире могут отправить в тюрьму учительницу всего лишь за то, что она открыла своему несовершеннолетнему ученику врата в сад любви, о котором его сверстники только грезят). Попутно дон предается изысканным эротическим фантазиям, наблюдая, например, как крошечные котята вылизывают умащенную медом Лукрецию: «Пара самых смелых котят уже добралась до внутренней стороны ее бедер и жадно слизывала капли меда с потных черных завитков на лобке».
Далее идет захлебывающееся в прекрасностях письмо влюбленной незнакомки дону Ригоберто: «Кто я? Та, что любит тебя, как пена любит волну, как облако любит зарю». Подобные же анонимные письма получает и Лукреция, и оба полагают, что пишет их тоскующий супруг (а), и оба в конце концов не выдерживают и бросаются в объятия друг друга — и догадываются, что письма вроде бы писал ангелочек-дьяволенок Фончито. Но им уже не до пустяков, и когда Лукреция просит мужа следить за ней, запирать, ибо если Фончито вновь на нее посягнет, то она не устоит, супруг не зацикливается на этом обстоятельстве: «Несмотря ни на что, у нас счастливая семья».
Ничего не скажешь — мастер, мастер. Но не в этом дело — где структура власти, структура-то где? Может, самое-то главное у Варгаса Льосы я как раз и упустил, но теперь ведь нет тех бескорыстных редакторов, а главное редакторш, которые, движимые одной любовью, пробивали в печать новые западные таланты: их «Избранному» я мог бы доверять, но сам составить его я не в силах. Вот я потратил на Варгаса Льосу целый месяц (у работающего на трех работах свободных вечеров не так уж много) и что приобрел? Да, я постоянно дивился и даже восхищался: «Во дает!», — но ведь для меня чтение не цирк, я же немолодой усталый человек, игры и развлечения на меня лишь нагоняют тоску, я хочу что-то понять, в чем-то утвердиться, чем-то утешиться, и мне в конце концов как-то даже обидно читать писателя, которому до моих радостей и горестей нет ровно никакого дела.
Если искусство решило удивлять, вместо того чтобы открывать и потрясать или смешить, то и мне до него дела нет. Но какая же сила заставила меня отдать ему целый месяц, коих у меня так ли уж много и осталось? Я-то думал, в культуре хозяев нет — ан есть! Какие-то неизвестные мне господа по неизвестным мне мотивам поставили на писателе товарный знак Нобеля, и я отдал ему месяц духовной жизни, который мог бы посвятить пусть не такому циркачу, но все-таки писателю, которому до меня есть дело!
Это скольким же душевным связям монополистический нобелевский бренд помешал завязаться между нашими читателями и писателями, кому приходится искать любовь друг друга в полной темноте, где человеческий голос заглушается пустозвонством рекламы и фанфарами дутой вечности. Ведь зачарованный ею я не остановился, но продолжал тратить остатки свободы на одного нобелиата за другим.
Я купил и прочел «Снег» Орхана Памука, где искусство и не ночевало, хотя, будь это очерк о борьбе исламизма со светским государством, то было бы даже и актуально: «По отдельности беднякам, может быть, и сочувствуют, но когда бедна целая нация, весь мир первым делом думает, что это нация глупая, безголовая, ленивая, грязная и неумелая. Вместо того чтобы посочувствовать им, мир смеется. Их культура, их традиции и обычаи кажутся ему смешными». Но лирика!..
«Наслаждаясь тем, что они держат друг друга в объятиях, они с большим желанием поцеловались и упали на кровать рядом друг с другом. За этот короткий миг Ка почувствовал такое потрясающее желание, что в противоположность пессимизму, только что владевшему им, он с оптимизмом и желанием, не ведающим границ, представил, как они снимут одежду и будут любить друг друга». «Он сразу же изо всех сил обнял ее; и, засунув голову между ее шеей и волосами, стоял так не шевелясь». «После этого они с огромной силой сблизились друг с другом, и остальной мир остался где-то далеко». Это уже похоже на издевку.
Допустим, виноват переводчик, переводы Солженицына на английский тоже были чудовищны: вместо «не подпишешь — бушлат деревянный» лепили «если бы он не подписал, его бы расстреляли». Но и это, опять-таки, говорит о том, что и Солженицын получил премию за «нужность». Так вот, если бы на «Снеге» не стояло нобелевское клеймо, разве стал бы я его покупать? И дожевывать до конца?
«Пианистка» Елинек открыла мне, что истерика тоже может быть занудной, и все-таки нобелевский гипноз заставил меня и ее домусолить до финала. А «Золотую рыбку» Леклезио я бы даже расхвалил, если бы ее кто-то прислал из Оренбурга, но с точки зрения вечности ее не разглядеть.
Впрочем, я всего лишь немолодой человек с научно-техническим образованием и никому ничего не собираюсь навязывать. Но пусть не навязывают и мне. Пусть дутыми нобелевскими фанфарами не заглушают голоса тех, с кем мы могли бы полюбить друг друга.
Александр Мелихов