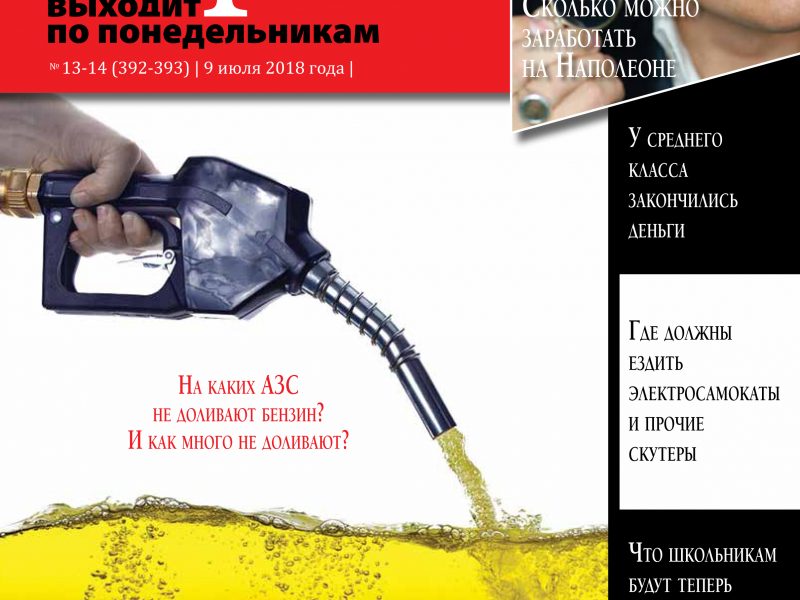О соединении музыки и света говорили многие – начиная с Аристотеля. Художник и музыкант Валентин Афанасьев уверяет, что изобрел собственный метод такого соединения. Кому это нужно, он рассказал Online812.
– Насколько я помню, еще Скрябин занимался цветомузыкой?
– Так сначала на первом курсе музыкального училища я и заинтересовался композитором Скрябиным. Он был очень для меня непонятен. Вернее, я понимал, что в его музыке есть что-то необычное, но не чувствовал этого. Мне пришлось заездить несколько пластинок, слушать их часами, пока не почувствовал его музыку. Потом я узнал, что Скрябина интересовал вопрос единения музыки и света. Слава богу, тогда я еще не знал, что этой проблемой занимались многие.
– Почему?
– Потому что сразу как-то, в шестнадцать лет, почувствовал ключ к решению этой задачи. Я не знал, что первое упоминание того, что звук и цвет могут быть соединены, есть у Аристотеля, что после открытия дисперсии света Ньютоном этой идеей заинтересовались многие его современники. Я не знал, что задачу этого соединения считал важной Гете.
– И нашли способ все это соединить?
– Некоторые исследователи соединения музыки и цвета шли механическим путем, искали какие-то частоты, но все заходило в тупик. Слава богу, что я ничего не знал этого, когда стал заниматься этой проблемой.
На самом деле, надо соединить принципы музыкальной гармонии теории музыки с принципами художественного цветоведения. Мне удалось это обосновать математически. По крайней мере, было хорошо, что меня с самого начала не сбили идеей, что “земля плоская”. Поэтому мне стал ясен ключ к решению этой задачи.
Когда я поступил в консерваторию, на первом курсе меня попросили рассказать о том, чем я занимаюсь. Никто ничего не понял из того, что я говорил, но тогда не было и техники, с помощью которой это можно было бы реализовать. В то время были прожекторы, в которых фильтры надо было менять с помощью рукавиц, мне же были нужны такие, которые могли бы изменить цвет в нужный момент.
– Вы запатентовали свое открытие?
– Идея функциональной зависимости цветов для применения в цветомузыке запатентована во Франции и России.
– Кто-нибудь еще занимается цветомузыкой в России?
– В Казани есть конструкторское бюро “Прометей”, в нем очень много лет занимались этой проблемой. С одной стороны, очень хорошо, что они этим занимались, поддерживали интерес к этой проблеме, но с другой – они сделали выводы, которые мешают понять саму суть. Меня, правда, удивляет, почему к решению этой задачи не пришли Чюрленис или Матюшин, они оба были и художниками, и музыкантами. Хотя у Чюрлениса есть живописные варианты сонаты и фуги.
– Так зачем все-таки соединять музыку и свет? Для усиления воздействия на человека?
– Сейчас привыкли говорить, что музыка – это искусство звуковой организации. Вообще, звук – это раздражитель, это определенная частота колебаний воздуха, которая воздействует на барабанную перепонку, через нерв возбуждает в мозгу электрический сигнал. Когда комбинацией этих раздражителей пользуются такие композиторы как Моцарт или Шопен, то у нас возникают ощущения, которые мы называем музыкой. Проще говоря, люди научились управлять звуками.
Абстрактная живопись сродни музыке, но она статична. Художник знает, что живопись очень эмоционально воздействует на человека, потому что в ней есть соотношение цветов. Одно дело, если вы находитесь в синих тонах, и совсем другое, если в красных.
Если говорить о музыке, то есть такое понятие как цветной слух. Говорят, он был у Римского-Корсакова. Скрябин писал, что видел цветовые тональности своей музыки. Об этом качестве может больше сказать нейрофизиология. В Институте мозга мне говорили, что если человеку перерезать зрительный нерв, то он прорастает в слуховую область. То есть эти модальности близки.
Мы любим музыку не потому, что она красиво звучит. Звуки находятся в определенных отношениях напряженностей. Диссонанс нас раздражает, в нем есть большая степень напряженности, поэтому нам больше нравится унисон, а это ноль относительной напряженности.
Мне надо было найти цветовые отношения, которые соответствовали бы отношениям звуков, но цвет и звук – это разные стихии, они не переводятся один в другой, их можно только сопоставить. Многие исследователи не могли решить задачу цветомузыки потому, что хотели перевести звук в цвет.
– Цветомузыка – это всего лишь зрелище?
– Смотря как это сделать. Я не сторонник дублировать музыку. В симфоническом оркестре есть струнные, духовые инструменты, ударные. Все они играют свое, а вместе получается, например, увертюра к опере “Кармен”. Нужно вводить в состав симфонического оркестра и новые инструменты, в том числе и световые.
У этого мнения есть сторонники и противники. Одни говорят, что музыка самодостаточна. Мне хочется им возразить. Искусство черно-белой графики тоже самодостаточное, но ее существование не налагает запрета на существование живописи.
– Вашему методу можно научить любого?
– В принципе, да, но есть тонкости. У световых инструментов есть некие особенности. Есть рояль, и на нем может играть любой, кто учился этому. Также, если найдется человек, который изучит мою систему, он сможет и писать музыку, и играть, надеюсь, со временем лучше меня.
– Сколько раз вам довелось показать итоги своей работы?
– Два раза в Капелле исполняли “Реквием” Моцарта, в Смольном соборе “Увертюру” Глинки и “Половецкие пляски”. В Париже в концертном зале ЮНЕСКО исполняли хоры из опер Верди, Гуно, Сен-Санса. Был концерт памяти композитора Успенского в Большом зале Филармонии. В 2009 году состоялся концерт в “Ледовом дворце” Петербурга, где исполнялись “Прометей” Скрябина, “Болеро” Равеля, увертюра к опере “Тангейзер” и другие. Еще есть планы сделать концерт с акустическими и электронными инструментами. Есть такие аккордеоны, которые можно посредством компьютерной программы совмещать со световой техникой.
– Говорят, в Ледовом дворце на ваш концерт пришло много народу. Откуда взялись зрители?
– Во-первых, есть поклонники, которые ходят на все мои концерты. И помогла работа продюсерского центра. Провести концерт в Ледовом дворце решил директор фирмы, которая предоставляет осветительную технику. Слава богу, есть такой человек, он заражен этой идеей, помогает с прожекторами. Это, кстати, не очень дешево: аренда одного прожектора стоит сто долларов, а на том концерте их было сто двадцать шесть. В Ледовом можно более или менее удобно расположить технику. Хотя в Большом зале Филармонии красивее, но там есть серьезные технические ограничения.
– Вы переводите в цвет только симфоническую музыку?
– Есть варианты и эстрадной. Мы совмещали цветной свет с записями Армстронга и Бритни Спирс.
– Какого цвета больше, например, в музыке Моцарта?
– Если говорить о моем методе, то это как решит художник. Знаете, есть портрет Анны Ахматовой в голубых тонах кисти Альтмана. Если бы ее писал Фальк, он использовал бы другие цвета, но на портрете все равно была бы Анна Ахматова.
Мы можем пойти в разные театры на “Ромео и Джульетту”, в одном театре Ромео будет выходить из правой кулисы, в другом – из левой, но все равно это будет Ромео.
Например, увертюру Вагнера к “Тангейзеру” я начал с зеленого цвета, но очень возможно, что кто-то решил бы сделать иначе. Цветовая тональность не привязана к звуку. Можно математически доказать, что нота ля голубого цвета, но чувству это ничего не говорит. В звуках нет четкой привязанности к цвету, тут главное – отношение.
Вот есть такое растение как крапива. Она зеленая, но притронешься – обожжешься. То есть зрению недоступно жжение, а осязанию недоступно ощущения цвета. Это разные чувства, хотя информация от одного и того же предмета. У звука и цвета много общего и много различий, но их объединение позволяет обогатить одно другим.
– Что говорят ваши коллеги о вашем изобретении?
– Те, которые работают со мной, научились моей системе. Есть молодой композитор Иван Полех, он прослушал в консерватории мой курс и стал полноценным коллегой-светокомпозитором.
Есть люди, которые против. Они считают, что цветомузыка – это дискотека. Кто-то считает, что музыку нужно иллюстрировать цветом, но я не занимаюсь иллюстрированием. Иллюстрировать можно конкретный художественный образ, это может делать каждый. Здесь же предлагается система.
– У вас какая-то специальная аппаратура?
– По сути мы пользуемся прожекторами, которые сделаны для шоу. У них есть несколько вариантов подходящих оттенков, максимум двенадцать. В любом магазине светотехники есть прожектора, которые дать восемь, десять цветов с неподходящими оттенками, но чтобы систематизировать цвета соответствующим звукам нужно 84 цвета.
– Можно ли почувствовать цвет не только у музыки, но и, например, у времени?
– Можно, но это вопрос больше философский. Я думаю, что можно не только увидеть цвет эпохи, но и услышать ее звук.
– И какой цвет у нашего времени?
– Это очень субъективно. Мне вспомнился анекдот про черта, который предложил ему дать такое задание, которое он не смог бы выполнить. Ему предлагали и построить дом до неба, и еще что-то, но все это было для него возможно. И только одно предложение привело его в тупик: мужик свистнул и сказал: “Пришей к этому пуговицу”. Проще говоря, есть вещи, которые бывают принципиально недоступны разуму.
Человечество существует несколько тысяч лет, а пользоваться электричеством начало совсем недавно. Сколько веков существует наука, а ведь всего прошло около трех столетий, как она оторвалась от алхимии. Сейчас много говорят о кризисе в искусстве, а соединение музыки и цвета только-только начинается.
– Так все-таки, какой же цвет у сегодняшнего времени?
– Я родился в такой стране и в такое время, что могу сказать, в том времени было много красного. Это психологически. Может, это оттого, что, когда я учился в консерватории, мы ходили на демонстрации с красными флагами. Но цвет той эпохи не просто красный, а почему-то с грязцой.