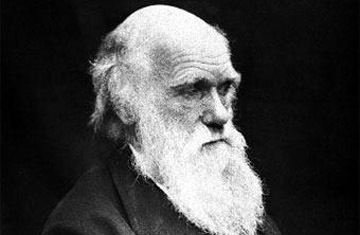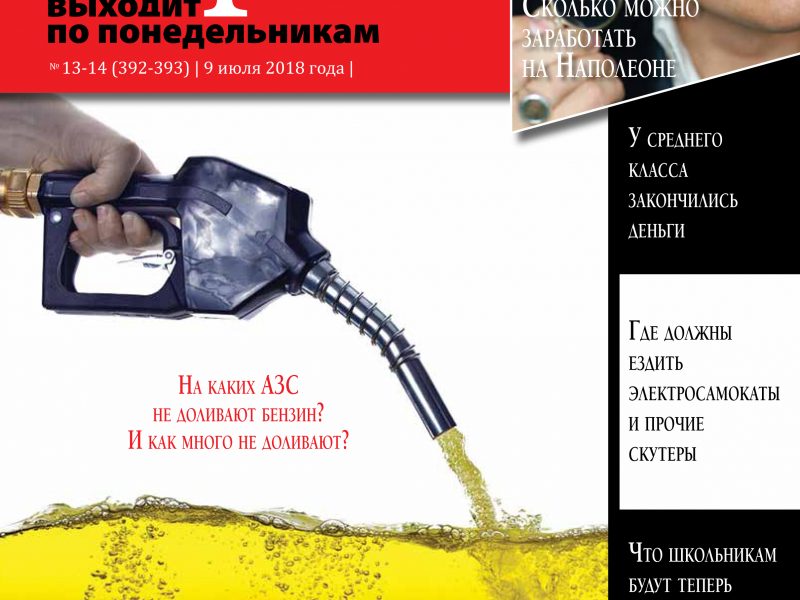200-летие со дня рождения Чарльза Дарвина только что с помпой отмечала мировая научная общественность. Очередной реверанс в сторону ученого сделала Католическая церковь: в феврале 2009 года Ватикан официально заявил, что «эволюции есть место в христианской теологии» и что «идеи Дарвина не противоречат христианскому вероучению». В окружении Папы словно бы забыли, что идеи естествоиспытателя Чарльза Дарвина когда-то были поставлены под сомнение… самим естествоиспытателем Чарльзом Дарвином.
“Частенько мы пили не в меру…”
Дарвину вообще с юных лет были свойственны сомнения.
Например, в молодости он сомневался в необходимости изучения анатомии и хирургии. Сомневался Дарвин и в том образовании, которое в конечном итоге получил.
Как известно, Чарльз учился сперва в англиканской Шрусберской школе, затем в колледже Церкви Христовой Кембриджского университета. Эту учебу Дарвин считал зря потраченным временем: “От моего пребывания в школе не было никакого толка… Моя страсть к стрельбе и к верховой езде сблизила меня с кружком любителей спорта, между которыми были молодые люди сомнительной нравственности… Частенько мы пили не в меру, а затем следовали веселые песни и карты…”
В чем Дарвин совсем не сомневался – по крайней мере, в конце своей жизни – так это в христианском учении, на изучение которого он потратил свои лучшие годы. “Это учение отвратительно”, – написал он в автобиографии.
“Медведи могут стать китами”
В возрасте 22 лет, фактически не имея какой-либо подготовки в сфере естествознания, юный богослов Дарвин (в Кембридже он получил степень бакалавра) отправился в пятилетний вояж на исследовательском судне “Бигль” в должности внештатного (то есть неоплачиваемого, но и никому не подотчетного) натуралиста. Хотя путешествие “Бигля” было кругосветным, наиболее известным событием стало посещение Галапагосских островов. Именно там Дарвин наблюдал своих знаменитых вьюрков. На молодых в геологическом плане вулканических Галапагосах сформировались разнообразные природные условия, в результате чего в одних местах, где пищу можно было добывать лишь под дерном, выжили вьюрки с массивным клювом; там же, где пища существовала в щелях деревьев, большинство птиц имело длинный клюв. Разные условия жизни настолько изменили внешний облик птиц, что они с трудом походили друг на друга. Однако все они остались вьюрками! Но Дарвин был приверженцем модного в то время учения о прогрессе и последней деталью решил пренебречь. Как писали потом биографы, вьюрки были находкой всей его жизни. Вскоре Дарвин провозгласил естественный отбор движущим фактором образования не только подвидов, но и далее – почему бы нет? – видов, родов, семейств, классов, царств… В “Происхождении видов” он писал: “Я не вижу никаких сложностей в том, чтобы какая-либо порода медведя в результате естественного отбора постепенно приобретала особенности, позволяющие обитать в воде, чтобы затем у нее постепенно увеличивались размеры пасти и чтобы она, наконец, превратилась в огромного кита”.
Гипотеза, конечно, была смелой, однако о строгой научности тут говорить не приходилось, и сам Дарвин это понимал. Более двадцати лет он оттягивал публикацию своих идей.
“Будущая книга весьма разочарует вас, – писал он своему другу за год до публикации “Происхождения”, – уж очень она гипотетична. Скорее всего, от нее не будет другой пользы, кроме как от сборника нескольких фактов. Хотя мне кажется, что я нашел свой путь подхода к происхождению видов. Но так часто, почти всегда, автор убеждает сам себя в истинности своих предположений”.
И все-таки до конца убедить себя в правоте своих предположений Дарвин не смог. Например, во втором издании теорию о превращении медведей в китов он просто вычеркнул.
“Идея моя абсурдна…”
Читая столь модные сейчас опровержения теории Чальза Дарвина, удивляешься тому, как плохо информированы его критики. Возражая ученому, они любят приводить в пример глаз – как пример структуры, которая никак не могла сформироваться в результате эволюции. (Логика здесь следующая: зрительная способность глаза зависит от строго определенного расположения его частей. В процессе эволюции должны были возникать “промежуточные формы” глаза. Но какая польза от “полуглаза”?) Наверное, всем критикам стоило бы внимательнее читать “Происхождение видов”, где Дарвин своею рукой писал: “Предположим, что глаз, с его сложнейшими системами – изменение фокуса на различные расстояния, улавливание разного количества света, коррекция сферических и хроматических аббераций, – такой сложный механизм образовался в результате естественного отбора. Откровенно говоря, эта идея мне кажется совершенно абсурдной”.

В письмах к друзьям и коллегам Дарвин постоянно подчеркивал, что его построения основаны не на строгих научных данных, а на… вере. В 1863 году Дарвин писал: “В самом деле, вера в естественный отбор принуждена сейчас опираться на общие соображения… Переходя к отдельным случаям, мы можем доказать, что нет ни одного вида, который бы не изменился… Но мы не можем доказать, что предполагаемые изменения во всех случаях были полезны, а ведь это составляет основу теории”.
Итак, Дарвин сам крепко сомневался в своей теории! Несмотря на огромное количество собранного фактического материала как об искусственном, так и об естественном отборе благоприятных признаков, исходно заложенных в биологическом виде, в его книге о происхождении видов не было сделано ни одного серьезного научного заключения лишь об одном – собственно о происхождении видов. Главное место в работе занимали главы “Трудности, встречаемые теорией”, “Возражения против теории” и “О неполноте летописи окаменелостей”.
Дарвин честно признавал: “Я уверен, что в моей книге вряд ли найдется хоть один пункт, к которому нельзя подобрать факты, которые приводили бы к прямо противоположным выводам, чем те, к которым пришел я”.
Откровенно, не правда ли?
“Мои способности слабы…”
Читая Дарвина, приходишь к интересному выводу: этот ученый сомневался даже в самом себе!
“Я не обладаю ни быстротой соображения, ни остроумием, – сообщал о себе Дарвин. – Поэтому я очень слабый критик: всякой прочитанной книгой я сначала восторгаюсь, а затем уж, после долгого обдумывания, вижу ее слабые стороны. Мои способности к отвлеченному мышлению слабы, поэтому я никогда не мог бы сделаться математиком или метафизиком. Память у меня довольно хорошая, но недостаточно систематичная. Я обладаю известной изобретательностью и здравым смыслом, но не более, чем любой средний юрист или врач…”
А вот еще более нелицеприятный отзыв: “Вот уже несколько лет, как я не могу вынести ни одной стихотворной строки; пробовал я недавно читать Шекспира, но он мне показался скучным до тошноты. К живописи и музыке я тоже почти совсем охладел… Ум мой превратился в какой-то механизм, перемалывающий факты в общие законы, но почему эта способность вызвала атрофию той части мозга, от которой зависят высшие эстетические вкусы, я не могу понять. Человек с более высокой организацией ума, вероятно, не пострадал бы”.
“Удивительно, что при таких средних способностях, – резюмировал Дарвин, – я мог все же оказать значительное влияние на взгляды людей науки по некоторым важным вопросам”.
Если бы Дарвин знал, что в XXI веке ему удастся “оказать значительное влияние” на взгляды римских епископов и самого понтифика, он, должно быть, удивился бы еще больше….

Дмитрий Орехов