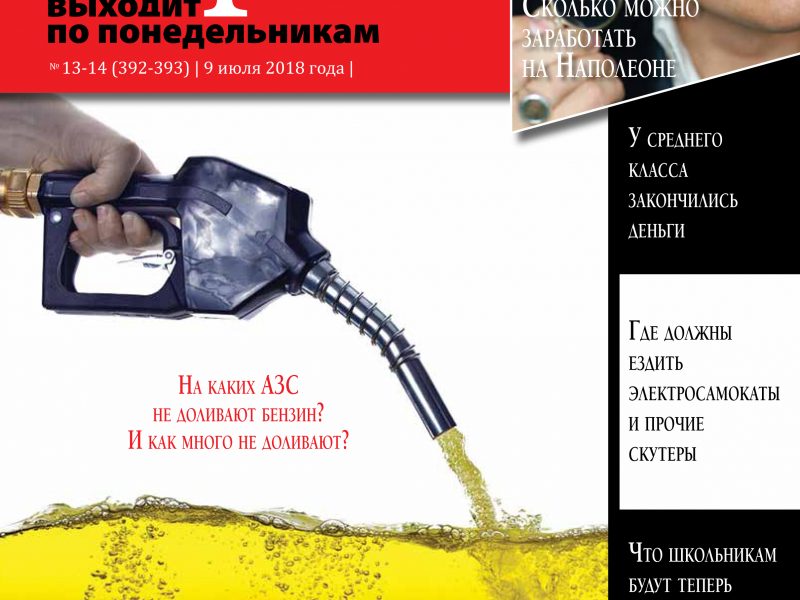«Это свободный мир…» уже сочтен западными критиками одной из главных удач Кена Лоуча в последние годы
Кен Лоуч — персонаж в российском прокате нечастый, да и нежеланный. И нынешний выход фильма “Это свободный мир…” тут вряд ли что изменит. Ярлык “британского троцкиста” был намертво прилеплен к Лоучу еще в конце 60-х, и поводов отлепить его — или хотя бы сменить на какой-нибудь новый — режиссер с тех пор так и не дал.
Он, 72-летний, по-прежнему свято верит в классовую борьбу, в деление общества на эксплуататоров и эксплуатируемых, в рост революционного сознания трудящихся масс… в общем, во всю эту лексику, которая для любого вменяемого обитателя постсоветской России куда табуированней, чем матерная. Да и на Западе, переболевшем краснушной сыпью цитатников Мао, лексика эта осталась вотчиной интеллектуалов из провинциальных университетов (для которых революция — частный случай деконструкции) да богемных маргиналов, которые удивительным образом делят свои симпатии между Джорджем Сантаяной и Ульрикой Майнхофф.
Однако Лоуч не относится ни к тем, ни к другим. Более того — ни те, ни другие не интересуют его и в качестве зрителей. Его интересуют — все остальные. Беда в том, что всех остальных мало интересует он сам. Как и все адепты идей, числившихся некогда передовыми и опасными, Лоуч непоправимо старомоден. В том классовом переустройстве, о необходимости которого он говорит из фильма в фильм, нет ничего зажигательного и инфантильно-бунтарского: его тезисы скучны и непреложны, его стиль — подробен и зануден.
Фильмами Лоуча почти невозможно увлечься, бурно и безоглядно: они требуют сначала понимания и лишь потом, вследствие, — сочувствия. Внятность его изложения не имеет ничего общего ни с короткими абзацами агиток, ни даже со схематизмом Краткого курса: его курс — полон. Он не начинает каждый свой фильм с провозглашения революционных идей, чтобы затем, задним числом, прописать мотивировки; нет, он неторопливо рассматривает отдельно взятый социальный механизм, — в его устройстве, в его развитии, — и лишь затем, порой уже под финал, эти самые идеи формулирует. Как напросившийся вывод.
Что в результате? Обвинения в пособничестве террористам на страницах британских газет. Лощеный каннский истэблишмент, поднимающийся в едином порыве на премьере “Хлеба и роз”, чтобы хором подпеть главному герою — не что-нибудь, “Интернационал”. Бесчисленные призы на крупнейших фестивалях — и вечное пребывание на обочине кинопроцесса. Кен Лоуч — человек, назначенный коллегами по киноцеху отвечать за них всех (если что) и для этого помещенный в специально отведенную нишу. Всем удобно, всем хорошо. Вот только революция все никак не произойдет.
Лоуч – не прокурор, а эксперт-консультант. “Это свободный мир…” уже сочтен западными критиками одной из главных удач Лоуча в последние годы, и не зря: механизмы эксплуатации в современном мире, столь вроде бы неуловимом (как жалуются многие лоучевы коллеги), вскрыты режиссером, как на показательной операции в мединституте. Главная героиня — молодая, 33 лет, англичанка по имени Энджи, занимающаяся рекрутингом иностранных рабочих. Энергичная, пробивная, самолюбивая, — она тем не менее вовсе не выглядит монстром из поточных офисных комедий: и душа у нее вроде бы есть, и совесть. Поначалу.
Но Лоуч постепенно, шаг за шагом, почти незаметно, показывает, как в молодой женщине, которая лишь хотела хорошо выполнять свою работу и была наделена для этого незаурядными способностями, пробуждается и растет нечто, заставляющее в ужасе отшатнуться от нее и родителей, и друзей. Как законопослушность сменяется ловкостью, профессионализм — бездушием, а желание обеспечить себя и сына (Энджи — мать-одиночка) — алчностью. Лоуч ни разу не повышает голос, он точен, сух и, как обычно, немного зануден. Он не изобретает “сочных” монтажных стыков, которые шокировали бы зрителя и “заставили бы его задуматься” (хотя он это умеет, как мало кто). Его мощь — именно в обыденной повествовательности.
Две подруги, владеющие рекрутинговым агентством, тоскуют в вечернем баре от отсутствия мужчин, а затем решают воспользоваться своими списками, чтобы пригласить домой “на вечеринку” нескольких рабочих: с моральной точки зрения небезупречно, но, в общем-то, ничего криминального. И лишь когда, несколько минут спустя, они начинают выбирать, кого именно пригласить, — у этого хорошие зубы, у того красивая блестящая кожа, — зрители понимают: дело происходит на невольничьем рынке былых веков.
Или другой пример: в начале фильма Энджи встречает на улице иранского гастарбайтера, живущего в сыром бараке с женой и двумя дочерьми, и настолько проникается сочувствием, что временно переселяет их к себе домой, а сама отваживается на изготовление для них фальшивых документов. В финале же Энджи, пытаясь пристроить “своих рабочих” поближе к фабрике, от которой поступил заказ, обнаруживает неподалеку от нее парк трейлеров, заселенных иммигрантами-нелегалами. И, дабы освободить место, делает анонимный телефонный донос в муниципалитет. А затем видит среди обитателей трейлеров, обреченных на выселение на улицу, тех самых двух иранских девочек… Нет-нет, она не то чтобы вообще не испытывает угрызений совести по этому поводу. Испытывает. Но в этой игре играют по этим правилам. Отец Энджи, — невзрачный, неуспешный пожилой англичанин, — потрясенный методами работы дочери, почти кричит на нее: “Ты платишь им хотя бы минимальную зарплату?” Энджи уходит от ответа. Оправдывается социальными условиями, тем, что “делает для них хоть что-то”… Затем поднимает на отца глаза: “Ты что, думаешь, кому-то не все равно?”
Лоучу не все равно. Может, кому-то еще, не знаю. В кинозале я сидел один.
Алексей Гусев