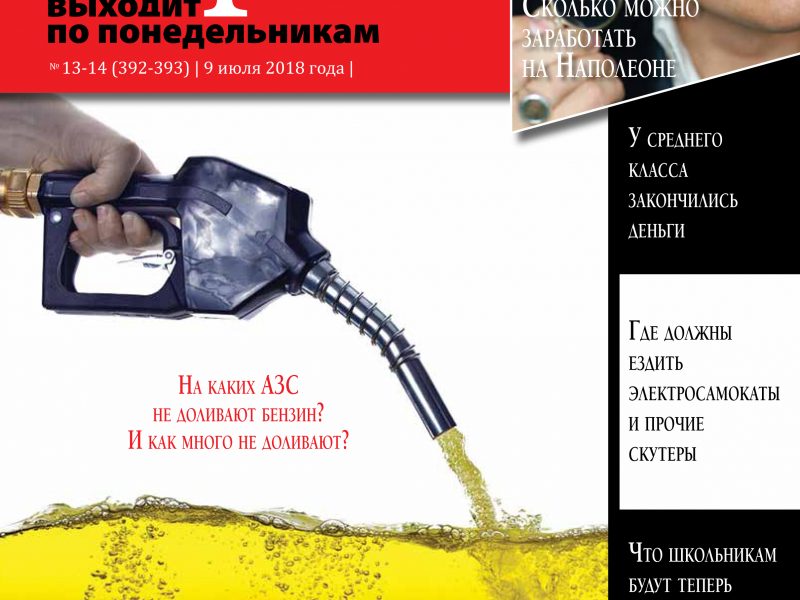Илья Резник свой юбилей отмечал в прошлом году. Ему исполнилось семьдесят. В этом году шестьдесят отметила Пугачева. Поскольку сама примадонна интервью не дает, все идут со своими вопросами к Резнику. Он и сам всегда остро реагирует на критику в ее адрес. Недавно в интервью практически уничтожил бывшего мужа Пугачевой Евгения Болдина, отважившегося издать книгу воспоминаний о совместной жизни с Аллой Борисовной. Впрочем, Резник знаком не только с Пугачевой.
– Недавно читала, что, когда вы жили в Ленинграде, Довлатов привел к вам в гости Бродского. У вас что, была одна компания?
– Я дружил с Борей Довлатовым, настоящим красавцем. Мы учились в театральном – я на актерском отделении, а он – на художественно-постановочном. И поскольку мы дружили, то и Сережу я тоже знал. И однажды, это был, кажется, 61-й год, он позвонил и спросил, не могут ли они с Иосифом зайти ко мне на бутылку вина. У меня было вино, кофе. Я зажег свечку, чтоб нам красиво было, стал ждать гостей.
– Знали до этого Бродского?
– Нет, я его тогда не знал и вообще в те годы не увлекался поэзией. Разве что Блока любил – и то только потому, что я его сдавал на вступительных экзаменах… Моя комната в коммуналке на улице Восстания была завешана работами моих друзей, которые учились в Академии художеств и Мухинском училище. Я очень любил эти работы. И вот, приходит Сережка, мы поздоровались. А Бродский вошел за ним – ни здрасте, ничего – и сразу к картинам. Тычет в них пальцем и говорит: “Говно, говно, говно”. И тут вдруг остановился перед акварелью Миши Щеглова – тот был в то время главным художником Малого оперного театра: “Может, эта? Да нет, и эта говно”.
Нормального, думаю, парня Довлатов привел. Мы вышли на балкончик, сели. И Бродский вытащил свою новую поэму и стал читать. Я только запомнил, что там был Христос и твою мать. Мат перемежался с божественными словами. Это была очень эмоциональная поэма. Он долго ее читал, аж брызги летели. Бродский меня потряс своей энергетикой. Но удивил небрежением к моим друзьям-художникам и своим матом. Дочитав поэму и допив портвейн, он встал, и они с Довлатовым ушли.
– Вы богато тогда жили?
– Жили мы с бабушкой бедно. Я очень мало зарабатывал в массовках. Я в те времена был, как ни странно, бардом – популярным даже. Меня к этому привел Городницкий. Песен двадцать, наверное, написал. Меня стали приглашать в компанию, где были Сережа Вульф, племянник Копеляна Леша Дворкин. Но сказать, что я был вхож в какую-то тусовку, не могу. К тому же не мог считаться компанейским человеком – не был пьяницей, не курил.
– Вы ведь жили в Ленинграде вплоть до начала перестройки. Должны были застать наш рок-клуб в великолепии.
– Рок никогда меня не интересовал. Мне все это несимпатично. Ни музыки, ни текстов. Один сплошной грохот.
– А считается, что русский рок – это в первую очередь тексты.
– Назовите мне хоть одного рок-музыканта, чьи тексты можно было бы слушать без раздражения.
– Цой.
– Так какой же он рокер? Нет, я не люблю все вот это – гитары грохочущие. Ни уму, ни сердцу.
– Тогдашние ленинградские компании были интереснее, чем нынешние люди из шоу-бизнеса.
– Я к шоу-бизнесу не имею никакого отношения. Если с кем-то и общаюсь, то только с Аллой.
– Но вы судили “Две звезды”, пишете для всех песни.
– У меня с бизнесом беда, вот в чем дело. Шоу-то, может, и есть, а вот с бизнесом засада полная. Потому что когда я был питерским автором, мои авторские права защищались здорово, тексты приносили доход. А то, что творится сейчас, – это ж курам на смех. Воруют все – и РАО, и исполнители. Чтобы не платить пять процентов, пишут “музыка, слова народные”. Инспекторы на местах неправильно заполняют рапортички за мзду какую-то. Поэтому не могу похвастаться заработками. Да, все пишут, что я живу в загородном доме. Но мало кто знает о том, что я его арендую у военного врача.
– Звучит трагично. Почти как – патриарх российской эстрады нищенствует.
– Вы легко можете проверить, сколько я зарабатываю, если знаете гонорары наших звезд. Вот поет какой-нибудь известный артист. Стоимость четверти часа его выступления – мой месячный гонорар.
– При этом вы часто рассказываете, что дарите свои тексты.
– Бывает. Вот сейчас я Сосо Павлиашвили стихи подарил. Нет, заказы, конечно, есть. Но в наше время исполнители уже сами пишут себе песни. Хотя вы же знаете, какого качества эти стихи. За последние 5 – 10 лет родилась какая-нибудь большая песня, чтоб на века?
– Я не слежу за нашей эстрадой.
– Из последних песен я горжусь “Юродивым”, которую Боря Моисеев поет. На нее всегда мощная реакция у публики. “Ночь выдалась суровая, под Рождество Христово, кружит над куполами белый снег”…
– Не смущает, что такой богоугодный текст поет артист нетрадиционной ориентации?
– А что, все юродивые были традиционной ориентации?
– Не знаю. А что они голубые были?
– Да какая разница! Главное, чтоб человек был хороший. Вы себе не представляете, что творится в зале, когда Боря поет эту песню, – никто от него такого не ожидал. Потом можно и Рихтера, и Чайковского, и Оскара Уайльда вспомнить – не читать их теперь, что ли? Неужели я должен больше уважать негодяя, если узнаю, что он традиционный половой гигант?
– Вы написали роман в стихах “Приключения Бобы Грека”. Там есть такие слова: “Киркорову здесь не досталось места, когда поесть бойфренда приводил”. С чего это вы позволили себе такое про Киркорова? Не любите его?
– Я себе никогда такого не позволял и не позволю. Это слова персонажа, который произносит их от своего лица.
– Говорят, вы крупно ссорились с Киркоровым. Опять помирились?
– Да, но сейчас, наверное, опять будем ссориться. Филя обиделся на мое недавнее интервью о мужьях Пугачевой, хотя про него там ни слова. Видимо, потому и обиделся. Но я ведь правду говорил по поводу Аллы, что все ее мужья были нарциссы, молчалины. Сильный, настоящий мужик с ней не уживется в силу того, что характеры одинаковые. Может, Филипп на это обиделся. Тогда как я его люблю по-прежнему.
– Что это они такие обидчивые?
– Потому что нарциссы, молодые люди романтической формации. Поэтому я и дружу с военными.
– А среди военных не бывает нарциссов?
– Всякие бывают, но я дружу с теми, кто мне нравится. С офицерами, с мужиками. С людьми крепкими, порядочными. Мне с ними интересно. А с людьми шоу-бизнеса мне неинтересно.
– Как вы отнеслись к заявлению о том, что Пугачева уходит со сцены?
– Это будет большая трагедия, если на самом деле случится. Я очень надеюсь, что у нее еще останутся силы, чтобы и дальше выступать. Хотя она очень устает, конечно. Я даже боюсь за ее здоровье. А так, мы ее потеряем – и кто останется? Сразу же уровень упадет.
– Говорят, теперь Валерия наше все.
– Она милая, но, увы, энергетика не та. Вы не будете плакать, смеяться вместе с ней. На нее можно только смотреть с удовольствием.
– Но и Пугачева уже не та.
– А через сто лет ее никакой не будет, и что же? Мало ли, кто кем был. Пушкина тоже нет давно, но он есть. И то, что Пугачева принесла в нашу жизнь, тоже есть. Это же шедевры. Да, все обсуждают, что Алла сегодня прохрипела, а послезавтра закашляла. Сейчас, будет она вам в 60 лет петь таким же юным голосом, как тридцать лет назад! Она просто перешла в другое качество.
– Странный вы. С одной стороны, переживаете за ее здоровье, с другой – не хотите, чтобы она ушла со сцены.
– Так зачем говорить “больше никогда”? На сцену ведь можно и периодически выходить, не часто. Я ей уже говорил: “Алла, вот будет тебе 80 лет, вывезут тебя на сцену в коляске – я лично вывезу, посадим тебя на фоне черного бархата. Свеча, столик, абажур – больше ничего не надо. Будешь петь, и тебя будут слушать”. Выходит же Сезария Эвора. Старушка, страшная, босая. Сидя поет. И ведь гениально, между прочим. Не надо бегать, не надо подтанцовок, декораций.
– А вас не раздражает, что вас спрашивают в основном о наших звездах, а не о вас самом?
– Нет. Я просто очень много чего про них знаю. И интересоваться этим естественно. Хотите узнать про меня – читайте мои стихи.
– Я как раз хотела выяснить, зачем это вы решили написать молитвослов?
– У меня разные периоды бывают. Могу сонеты писать. Могу – только четверостишия. Так и в случае с молитвами произошло. Я стал их записывать на разных обрывках. Потом отложил, забыл, а через месяц вспомнил и не нашел – я вообще никогда не знаю, где у меня что написано, где что лежит. Очень расстроился тогда, ведь ни одного слова оттуда не помнил. Но оказалось, что мой друг, которому я ночью читал эти молитвы, записал их на диктофон. Мы все это расшифровали, а потом Святейший прочитал и благословил. Даже написал несколько слов вступления. Это светские молитвы, но иерархи к ним очень тепло отнеслись. Я-то боялся, что они будут возражать, что человек нерусский лезет в их каноны. Но один священник назвал мои молитвы “Евангелием от Ильи”.
– Так вы не воцерковленный человек?
– Нет, но в нашей церкви ко мне очень тепло относятся. Все время предлагают меня покрестить. Но я говорю: “поздно уже, ребята”.
– По поводу “нерусского человека” – неужели правда, что ваши родители были датскими эмигрантами?
– Бабушка с дедушкой. Они жили в Копенгагене, а потом усыновили мальчика – моего отца, – бросили все и переехали в Ленинград. В Дании они хорошо жили, спокойно, а тут, конечно, попали… Жили в общежитии, потом дедушка пошел к Кирову, и мы получили комнату в коммуналке. Потом папа погиб, а я остался.
– А почему переехали в Москву?
– Потому что ленинградские власти ко мне очень плохо относились. Романов лично был ко мне не расположен. Здесь меня не приняли в Союз писателей.
– Вас по национальному признаку не любили?
– Конечно. Часто так бывало, что в концертах, где исполнялись мои песни, моей фамилии даже не упоминали. В Москве такого не случалось.
– Не жаль, что распался ваш триумвират с Пугачевой и Паулсом?
– Нам хорошо работалось вместе, но это время закончилось. Да и не так много песен мы втроем сделали. Это только кажется, что тогда была наша эпоха. Алла и сама превосходный композитор. Так что с Раймондом было хорошо, но надо было двигаться дальше.