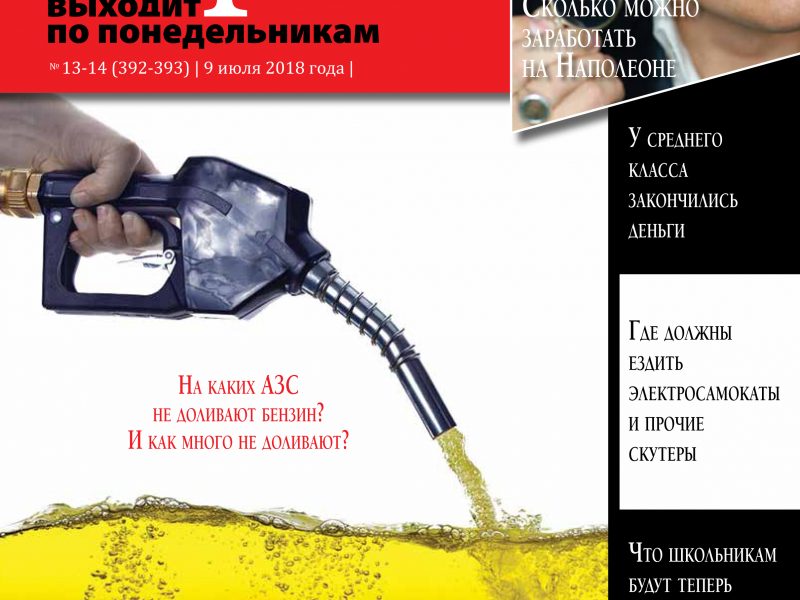В списке российской элиты (список составили по результатам опросов, проведенных ВЦИОМом и «Левада-Центром») Галина Вишневская занимает 68-е место, уступая в нем Чубайсу (43-е место) и опережая Алексея Кудрина (82-е). Впрочем, саму Вишневскую занятое ей место никак не волнует.
Она редко соглашается на интервью. Но для нас сделала исключение – потому что «Город 812» выходит на ее родине в Петербурге. И рассказала, чем нынешняя российская власть отличается от прежней советской, с кем надо петь и кого прощать.
Вишневская эпоха
– Вас называют человеком-эпохой. А каково ощущать себя эпохой?
|
То, что у нас показывают по телевидению с утра до ночи, слушать невозможно. Все эти “фабрики звезд”, которые штампуют неизвестно кого. Посмотришь – какой-то убогий детский сад выходит на сцену. И это наше российское искусство? Нет. Но я даже не знаю, как это назвать. Галина Вишневская |
– Ну какая я эпоха? Смешно даже. Рассмешили… Я живу нормальной жизнью. У меня есть своя школа, где я занимаюсь с учениками, выпускаю спектакли. Вот это и есть моя эпоха.
– Но вам много всего пришлось пережить: блокаду, смерть Сталина, хрущевскую оттепель, брежневский застой, исчезновение СССР… А, как известно из Тютчева, блажен тот, кто посетил этот мир в его роковые минуты. Тютчев прав?
– Думаю, что прав. Именно в такие минуты человек познает такие глубины, которые он никогда бы не узнал, живя благополучной жизнью. А познавать надо, знать это надо. Я пережила всё, и осталась жива, и осталась человеком.
– Какие из роковых минут оказали на вас самое большое влияние?
– Блокада Ленинграда. Мне было тогда пятнадцать лет, и блокада прошла через мое сознание. Это, конечно, закалило и выковывало мой характер. То, что я осталась жива, – просто чудо.
Описать состояние человека в блокаде трудно. По-моему, просто невозможно найти нужные слова. Постоянный голод. Есть нечего. Не секрет, что было и людоедство, на улицах лежали люди с вырезанными ягодицами. Человек был существом, которое стремилось выжить во чтобы то ни стало.
– Но люди все-таки не опускались до уровня животных?
– Опускались, если ягодицы у мертвых вырезали. Мне кажется, до сих пор так никто и не описал того ужаса, который был в блокаду. Мало быть свидетелем и пережить это, надо еще обладать невероятным даром, чтобы рассказать, как человек теряет свое человеческое лицо. Наверное, Господь правильно делает, что не дал никому этого дара. Не надо это рассказывать. Есть вещи, о которых вслух не говорят. Особенно когда человек теряет свой человеческий облик. Знать это надо, но рассказывать невозможно.
Была только одна надежда – остаться живым. Любым способом. Матери лежали в постелях с мертвыми детьми, чтобы получить карточки на них.
Сознание у человека затуманивалось, отуплялось. Я все время спала под одеялами, какими-то платками, боясь пошевелиться, чтобы не ушло тепло, и грезила в полусне, что стану артисткой. Наверное, это и спасло меня.
– С годами вы чувствуете себя более одинокой?
– Мое поколение уходит один за другим, но никакого одиночества я не чувствую, у меня много работы. Чтобы не погружаться в эти грустные мысли, надо работать. В этом спасение. В моем центре есть моя квартира, и, проснувшись, я иду работать в класс до пяти вечера. В субботу уезжаю на дачу.
– У вас какая-то своя, особая методика обучения студентов?
– Я даю им профессию. Мы учим с ними партии, учу их петь. Они приходят в наш центр совершенно беспомощными, ничего не умеющими, все они бывшие студенты либо Консерватории, либо музыкальных училищ. Часто приходят с испорченными голосами, мы поправляем их.
– Ваш центр оперного пения уникален или есть аналоги?
– Такой школы с такой программой, как в нашем центре оперного пения, больше в мире нет нигде. В театрах есть стажерские группы, но пользы от них мало. В театре некому работать с молодым артистом. Некому! Он сидит и ждет, когда придет случай, когда его вытолкнут на сцену более или менее подготовленного. В театр надо прийти готовым к работе.
Есть еще студии, они тоже малофункционирующие. А такого центра, как у меня, нет. Как-то нас навещал Пласидо Доминго, мы с ним пели в свое время. Он был потрясен тем, что существует такой центр. У нас есть сцена, оркестровая яма, для спектаклей мы приглашаем оркестр. Невероятно! Певцы, которые вчера кончили Консерваторию, поют первые партии.
– Много из них уезжает после окончания из России?
– Да, уезжают. Наши ученики поют и в Германии, и в Швейцарии, и в Италии. Приезжают импресарио и забирают их. И правильно делают. Ворота в мир открыты настежь, и там, конечно, больше платят. А что, держать и не пущать? Дайте им работу здесь. Но – мест нет. Сейчас, правда, в Большом театре поет наш ученик Эльчин Азизов, баритон из Азербайджана. Там же поет наша Корниевская. В “Геликоне” есть наш выпускник, в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, в “Новой опере”.
– Ваши коллеги любят жаловаться не нехватку финансирования, небольшое внимание со стороны властей… А у вашего центра есть проблемы?
– Конечно. Но у меня очень хороший директор – Елена Владимировна Опоркова, она занимается всеми проблемами. Нам помогают спонсоры, понемножку, мы не жалуемся. Иногда сдаем наш зал для проведения мероприятий. За счет этого доплачиваем педагогам, даем возможность подзаработать студентам – билетерами. Центр финансируется московским правительством, после того как я подарила его городу. Из бюджета мы получаем немного, но хватает.
– У вас характер хозяина. Вы вникаете в хозяйственные дела центра?
– Конечно. Как только я вхожу, тут же смотрю – что, чего, где. Пусть все знают, что я все знаю. Мне хватает одного раза пройтись по центру, чтобы узнать, где что случилось. В этом плане я – хозяйка. Там, где я работаю, все должно быть безупречно и безукоризненно.
Прилично ли петь с Басковым?
– Вы заявили после премьеры “Онегина” в Большом театре, что больше ноги вашей не будет в этом театре. Теперь в оперетту ходите?
– Нет, там я не была сто лет. Оперетта сегодня переродилась во что-то непонятное, в музыкальную комедию. Я признаю классическую оперетту – Оффенбаха, Легара, Целлера, Кальмана. В оперетте должны быть настоящие голоса. Тот, кто не поет в опере, может петь в оперетте, но голос должен быть настоящим. Если бы у меня было время, то я создала бы в Москве театр классической оперетты. Я хотела бы, чтобы в нем пели комические оперы.
– А опера не может стать массовым искусством?
– Опера вообще элитное искусство. Она не для площадей и микрофонов.
– А вот на Западе проходят фестивали – тысячи людей сидят на склонах холмов перед сценой и слушают оперу.
– Значит, у них больше таких людей, которые хотят слушать оперу. Слушать музыку надо учить с детства, у нас этого нет.
– Это ужасно?
– Печально, потому что это культура общества, но – другого, не нашего. То, что у нас показывают по телевидению с утра до ночи, слушать невозможно. Все эти ” фабрики звезд”, которые штампуют неизвестно кого. Посмотришь – какой-то убогий детский сад выходит на сцену. И это наше российское искусство? Нет. Но я даже не знаю, как это назвать.
Единственный канал, на котором есть серьезные передачи, в том числе про музыку, – канал “Культура”. Все остальное бред какой-то. Выходит на сцену восемнадцатилетний мальчишка или девчонка, начинают орать что в голову придет истошным голосом, и все это слушают. Вот дома они могут кричать в микрофон что хотят, или у костра петь, хотя в свое время мы у костра пели другие песни. Но главное – зачем все это показывать по телевизору?
– Таковы правила шоу-бизнеса.
– Вероятно, у общества есть такая потребность, и, наверное, это окупается, если показывают. Кто-то зарабатывает на этом, а народ смотрит и слушает. Они вот точно не пойдут слушать Вагнера или Чайковского на траве.
– Сегодня мэтры оперной сцены любят спеть вместе с молодыми эстрадными певцами. Вы бы спели?
– Я не стала бы этого делать. Если петь, то петь с певцом классической музыки, вывести его на сцену, представить публике. К тому, что сегодня творится на эстраде, невозможно даже слов подобрать. Это не пение, это не певцы.
– Неужели и с Басковым, как Кабалье, вы петь не стали бы?
– Нет, я не стала бы. Он эстрадный певец, безусловно, лучше многих. У него не оперный тембр голоса.
– Но ведь он был солистом Большого театра…
– Сейчас там полно солистов. Их чуть ли не с улицы приводят.
– В фильме Сокурова “Александра” вы дебютировали как драматическая актриса. Это было сложно – переквалифицироваться?
– В кино я уже пела, в 1965 году снималась в фильме-опере “Леди Макбет Мценского уезда” Дмитрия Шостаковича, но все равно там была музыка, которая давала фундамент. Когда Сокуров пригласил меня, я сначала отказалась, но он все-таки уговорил меня попробовать. Для начала сделали грим, на меня надели седой парик, и когда я посмотрела на себя в зеркало, то не узнала себя. Я даже обернулась, чтобы посмотреть, не стоит ли кто сзади меня? Вдруг я увидела в зеркале свою бабушку, которая меня вырастила, ее глаза, и свою тетку, тетю Катю. Как будто они вошли в меня. Именно это и дало мне ключ к роли.
Во время съемок я надевала сандалии с носочками… Получился образ женщины с авоськой, которая совершенно спокойно ходит и смотрит на вселенную без всякого пафоса.
– Значит, проблем с перевоплощением не возникло?
– Я артистка. Что мне скажут, то и буду делать. Скажут: изобрази вот такого человека – изображу. Тут не было проблем.
– Каким вам показался Сокуров?
– Он очень тактичный и удивительно незаметно работающий, казалось, что его совсем нет на съемочной площадке. Вот снимали мой план и мой проход, мне нужен Сокуров, я спрашиваю: “Попросите Александра Николаевича”, а он уже тут как тут: “Я здесь”. Он всегда рядом, и вы всегда его не видите.
– Вы видели его постановку “Бориса Годунова” в Большом?
– Да, и знаете, считаю, что сейчас такое время, когда такие спектакли ставить нельзя. В Большом театре для “Бориса Годунова”, такого, каким он был задуман Мусоргским, и таким его поставил Сокуров, нет нужного состава исполнителей. Спектакль у Сокурова получился интересный, но он был недотянут артистами.
Что должна делать русская бабушка
– А есть в круге вашего общения простые люди, далекие от искусства?
– Знаете, в моем окружении могут быть все, кто приходит ко мне не со злом, а с нормальными человеческими чувствами. Я вам скажу больше: живя в Советском Союзе, мне было понятно одно: если человек занимает высокий пост, то что-то у него не ладно. Просто так в те времена занимать большие посты было невозможно.
– Но ведь вы ездили на ужины к Булганину.
– Он ухаживал за мной, попробовала бы я не поехать. Но мы ездили с Ростроповичем. Надо было ездить. Мужики пили водку, напивались, я смотрела, а потом мы ехали домой.
– Ваши внуки почти все, можно сказать, иностранцы. Вы любите их как русская бабушка?
– А что такое русская бабушка? Конфетку, что ли, им дать? Не в этом дело. Я помогаю им встать на ноги, получить хорошее образование, чтобы они стали людьми. Вот это главное. А это не так просто. Особенно тут бабушке делать нечего. Могу лишний раз заплатить за учебу.
Я их всех обожаю, и они меня тоже любят. Конечно, они ничего не знают о России. Они плохо говорят по-русски, все время проводят среди иностранцев, общаясь то на французском, то на английском, то на немецком.
– Когда Солженицын вернулся в Россию, вы с ним часто общались?
– Не часто. Последний раз мы виделись года два назад. Он был уже болен.
– Он столько лет жил у вас на даче, и именно это было одной из причин вашего отъезда из СССР.
– Мы были рады помочь ему тогда.
– Ваша жизнь на Западе была более насыщенной, чем в Советском Союзе?
– По тому времени да. В Союзе у меня было два-три спектакля в месяц. В Большом десять человек в очереди стояло, всем надо было дать спеть. А там – семь-восемь выступлений в месяц, весь мир был открыт! Не говоря уж о том, что надо было начинать новую жизнь с нуля. Я там много пела, а Ростропович играл до ста пятидесяти концертов в год. Контрактами занимался импресарио, а быт приходилось налаживать мне.
– И в магазины ходить?
– Это как раз самое легкое. Когда у вас есть деньги, вас понимают без всякого языка. Вы держите в руках купюру, и для вас сделают все что угодно. В этом смысле у нас не было затруднений. Мы приехали на Запад известными артистами, бывали там с 1955 года на гастролях, наши имена были известны – пой сколько сможешь! Я оставила сцену в 60 лет, а Слава работал до конца жизни.
– Вы говорили, что голос – это “тайна божественная”. Вам открылась эта тайна?
– Бог дал мне ее, но я ее не открывала – он подарил мне ее. Но этой тайной я делюсь. Все, что мне дал Бог, весь мой опыт, который я приобрела в жизни, передаю своим ученикам. Но вложить душу в человека, который не отмечен талантом свыше, – пустое дело. Мое умение должно попасть в человека, который отмечен свыше, который может перенять мой опыт. Только талант может перенять опыт. Недаром говорят: нельзя научить, можно научиться. Знаете, вот приходят ко мне ученики, и если одни все схватывают на лету, то другим можно без конца объяснять одно и то же, и никакого толка не будет.
Тогда приходится откровенно говорить: “Вам, наверное, не стоит заниматься пением”. У нас не детский сад, да и нашим студентам часто по 28 – 30 лет, им надо жить дальше, надо содержать семью. Приходится быть откровенной.
– Как вы относитесь к прогрессу, новым научным открытиями? К тому, что ученые все дальше проникают в тайны мироздания и самого человека? Например, к клонированию…
– Это кошмар какой-то, бесовщина. Я стараюсь не слушать и не читать о том, что вы сказали. Не хочу этого знать.
– Вам, наверное, известно, что в Петербурге общественность борется за сохранность исторического центра, пишет письма в защиту родного города.
– Я никак не могу понять: зачем современникам портить то, что создано до нас в архитектуре, искусстве? Сохранять надо все это и создавать новое, свое, не искажая того, что оставлено нам в наследство предками. Хочешь строить новый город? Так строй его где-нибудь подальше. А то, что есть, – надо оставить в покое.
– Когда вы общаетесь с большими чиновниками, вы говорите им об этом?
– Нет. Я не настолько с ними общаюсь, чтобы говорить о таких вещах. Для этого надо иметь долгие и частые беседы. Могу подписать письма, но не все. Это очень серьезная тема, и у меня нет ни времени, ни сил, чтобы кому-то доказывать, что я права. Правое дело надо защищать как следует, а у меня иногда то с одной стороны кольнет, то с другой, и я думаю: “Надо поберечь себя”.
За эту власть против той
– Сегодня церковь все больше становится опорой для власти. Вас не смущает это?
– Нет, не смущает. Скажите, что может еще объединить народ, как не вера? Какая идея? Только церковь может объединить православный народ, ведь наша страна православная. Духовная близость и есть объединение народа.
Когда я вижу, что на Пасху президент стоит впереди народа в храме и осеняет себя крестным знамением, то не хочу думать – верит он по-настоящему или нет? Я вижу, что он русский православный человек, стоит, не стесняется креститься, и меня это вдохновляет. Церковь – это и есть главное, что может объединить народ. Только верой можно его объединить, больше он уже ничему не верит.
– Вот вы хорошо помните советскую власть. Вам не кажется, что она мало отличается от нынешней? Или нынешняя вам нравится?
– Нравится то, что мы с вами сидим и разговариваем об этом. И то, что нас с вами не ждет “черный воронок”.
– То есть возможность говорить то, что думаешь, это и есть главное?
– Конечно. Главное, что вы можете высказать свое мнение, и не важно, обратят на него внимание или нет. Солженицын четыре года жил на нашей даче, и из-за этого мы были вынуждены уехать из России. Вы можете представить себе, что это такое? Бросить все и уехать без копейки денег. У меня даже крест нательный на таможне сняли.
– За что сняли?
– Золото нельзя было вывозить. А вы говорите, какая разница? Я – за эту власть!
– КГБ подарил вам ваше с Ростроповичем досье, и вы теперь знаете имена всех, кто писал на вас доносы. Вы простили доносчиков?
– Абсолютно. Но – не забыла. Простить не значит забыть. У меня нет на них злобы, и я, наверное, смогла бы общаться с ними сегодня, если бы они сами захотели. Ни с кем из них так и не встретилась.
– А отношения с Образцовой хотелось бы восстановить?
– Боже сохрани! Вот с этой особой я не хочу иметь ничего общего.
– Почему?
– Я была с ней очень близка, она фактически моя ученица. Но, понимаете, нет ничего более мерзкого, когда ученик предает своего учителя. Ужасно, когда учитель отдает весь свой опыт ученику, а тот в ответ пишет донос, стреляет в спину. Она не просила у меня прощения, но я ее простила, не потому что хотела простить, а потому что не хочу носить в себе все, что пережила. Я хотела себя освободить прощением и освободила. А нужно ли Образцовой мое прощение, меня не интересует.
– Есть ли музыка, которая у вас всегда вызывает слезы?
– Когда слышу, как играет Ростропович и поет Шаляпин. Это гиганты не только мирового искусства. Это – концентрация русского человека в искусстве. Когда я слушаю Ростроповича и Шаляпина, то готова не просто прослезиться, а рыдать.
Андрей Морозов