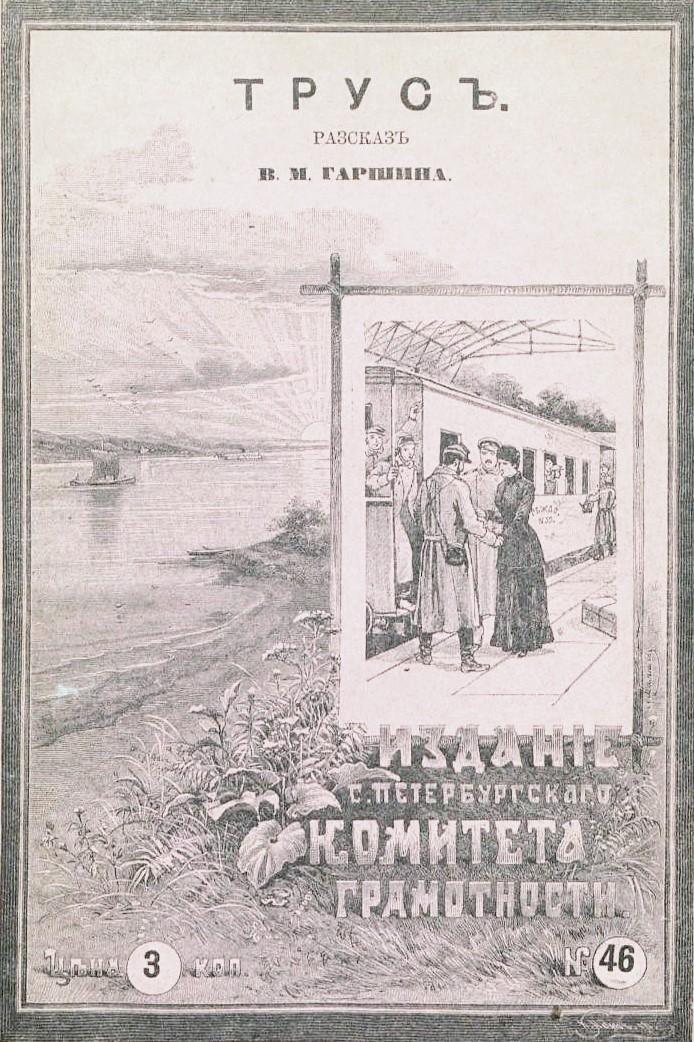Добрейший Гаршин тоже повоевал за братьев-славян. Но глубже всего он постиг психологию «труса».
Герой рассказа «Трус» не находит себе места.
«Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем плевненском бое. Выбыло из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок… Двенадцать тысяч… Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составится дорога в восемь верст… Что же это такое?
Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут или его у него взяли… я не помню. В этом страшном деле я помню и вижу только одно — гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо; я не берусь судить, да и не могу; я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущенным массою пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее… Он не понимает, чему его смерть послужит, и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревет отчаянным, надрывающим душу голосом».
Тупицам такая сверхчувствительность представляется трусостью.
«Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты, и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос: не трус ли я в самом деле? Быть может, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни в виду великого дела! И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела?
Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи, — правда, немногие, — в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугает меня…»
Знакомый студент-медик Львов призывает «лучше не думать, а заниматься своим делом», чем «бесплодными размышлениями об ужасах войны, потому что, сколько я ни думай, я ничего не сделаю для ее уничтожения». Вот ушлют его резать руки-ноги — будет резать. «Что ж делать, в такое время нужно жертвовать собой. Кстати, вы знаете, что Маша едет сестрой милосердия?»
Маша — сестра Львова, в которую «врезался» живущий у них в свободной комнате их общий приятель Кузьма (Кузьма Фомич).
У Кузьмы сделался огромный флюс, но он в любовной тоске не желает лечиться.
— Чем бы ни кончилось, все равно, — бормочет Кузьма.
— Вовсе не все равно, Кузьма Фомич; не говорите глупостей, — тихо возражает Маша (Марья Петровна).
«Довольно было этих слов, чтобы Кузьма успокоился. Он даже подсел к столу и попросил себе чаю. Марья Петровна налила и протянула ему стакан. Когда он брал стакан из ее рук, его лицо приняло самое восторженное выражение, и это выражение так мало шло к смешной, безобразной опухоли щеки, что я не мог не улыбнуться».
Приглашенный доктор, однако, находит, что дело плохо и просит дежурить у постели больного. А главный герой между тем продолжает размышлять все в той же ровной неторопливой манере.
«Я мог бы избежать участи, которой я так боюсь, мог бы воспользоваться кое-какими влиятельными знакомствами и остаться в Петербурге, состоя в то же время на службе. Меня “пристроили” бы здесь, ну, хоть для отправления писарской обязанности, что ли. Но, во-первых, мне претит прибегать к подобным средствам, а во-вторых, что-то, не подчиняющееся определению, сидит у меня внутри, обсуждает мое положение и запрещает мне уклониться от войны. “Нехорошо”, — говорит мне внутренний голос».
На войну, стало быть, гонят не только какие-то нехорошие люди, которым нужна война, но и некий внутренний голос…
А у Кузьмы тем временем дела идут все хуже: «Он медленно, методически отвернул одеяло, расстегнул рубашку, и на меня пахнуло невыносимым трупным запахом. Начиная от шеи, на правой стороне, на пространстве ладони, грудь Кузьмы была черна, как бархат, слегка покрытый сизым налетом. Это была гангрена».
Черна, как бархат… Ужасная картина вновь пробуждает в Гаршине художника.
«Кусок черного мертвого мяса ему вырезали и выбросили, как тряпку, и доктор велел нам каждые два часа промывать большую рану, оставшуюся после операции. Каждые два часа мы, вдвоем или втроем, приступаем к постели Кузьмы, повертываем и приподымаем его огромное тело, обнажаем страшную язву и поливаем ее через гуттаперчевую трубку водою с карболовой кислотой. Она брызжет по ране, и Кузьма иногда находит силы даже улыбаться, “потому что, — объясняет он, — щекотно”. Как всем редко болевшим людям, ему очень нравится, что за ним ухаживают, как за ребенком, а когда Марья Петровна берет в руки, как он говорит, “бразды правления”, то есть гуттаперчевую трубку, и начинает его поливать, он бывает особенно доволен и говорит, что никто не умеет делать этого так искусно, как она, несмотря на то, что трубка часто дрожит в ее руках от волнения и вся постель бывает облита водою.
Как изменились их отношения! Марья Петровна, бывшая для Кузьмы чем-то недосягаемым, на что он и смотреть боялся, почти не обращавшая на него внимания, теперь часто тихонько плачет, сидя у его постели, когда он спит, и нежно ухаживает за ним; а он спокойно принимает ее заботливость, как должное, и говорит с нею, точно отец с маленькой дочерью».
«Трус», тем не менее, не теряет и своей главной темы: «Сколько муки и тоски здесь, в одной комнате, на одной постели, в одной груди — и все это одна лишь капля в море горя и мук, испытываемых огромною массою людей, которых посылают вперед, ворочают назад и кладут на полях грудами мертвых и еще стонущих и копошащихся окровавленных тел».
Маша совершенно с ним согласна, однако именно ужасы войны заставляют ее туда стремиться: «Война зло; и вы, и я, и очень многие такого мнения; но ведь она неизбежна; любите вы ее или не любите, все равно, она будет, и если не пойдете драться вы, возьмут другого, и все-таки человек будет изуродован или измучен походом. Я боюсь, что вы не понимаете меня: я плохо выражаюсь. Вот что: по-моему, война есть общее горе, общее страдание, и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится».
Маша выражается вполне понятно, но уж до того спокойно и логично!
«И когда я направлял струю воды на обнаженные кровавые места, на показавшуюся и блестевшую, как перламутр, ключицу, на вену, проходившую через всю рану и лежавшую чисто и свободно, точно это была не рана на живом человеке, а анатомический препарат, я думал о других ранах, гораздо более ужасных и качеством и подавляющим количеством и, сверх того, нанесенных не слепым, бессмысленным случаем, а сознательными действиями людей».
Интонация по-прежнему очень уж ровная, но сравнение великолепное: ключица, блестевшая, как перламутр…
Кузьма умирает, герой оказывается на поле боя и видит, что солдаты, понятия не имеющие, из-за чего идет война, и сердитые на «турку» только за то, что из-за него всем столько неприятностей, все-таки «болеют» за своих.
«Батальон резерва, лежавший в снегу, не составив ружья в козлы, а держа их в руках, следил за движением черной массы всею тысячью своих глаз.
— Пошли, братцы, пошли… Эх, не дойдут!
— И чего это только нас держат? С подмогой живо бы взяли».
И бежать с поля боя нельзя, «потому — присяга».
Силы, которые гонят людей в бой, не открываются глазу и не очень-то поддаются рациональному объяснению. Тем более что размышления «труса» на этом обрываются: «шальная пуля пробила ему над правым глазом огромное черное отверстие».
Однако те же размышления подхватываются в воспоминаниях рядового Иванова, тоже в прошлом студента.
«Нас влекла неведомая тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуясь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню».
Сильный был прозаик Гаршин.
Александр Мелихов