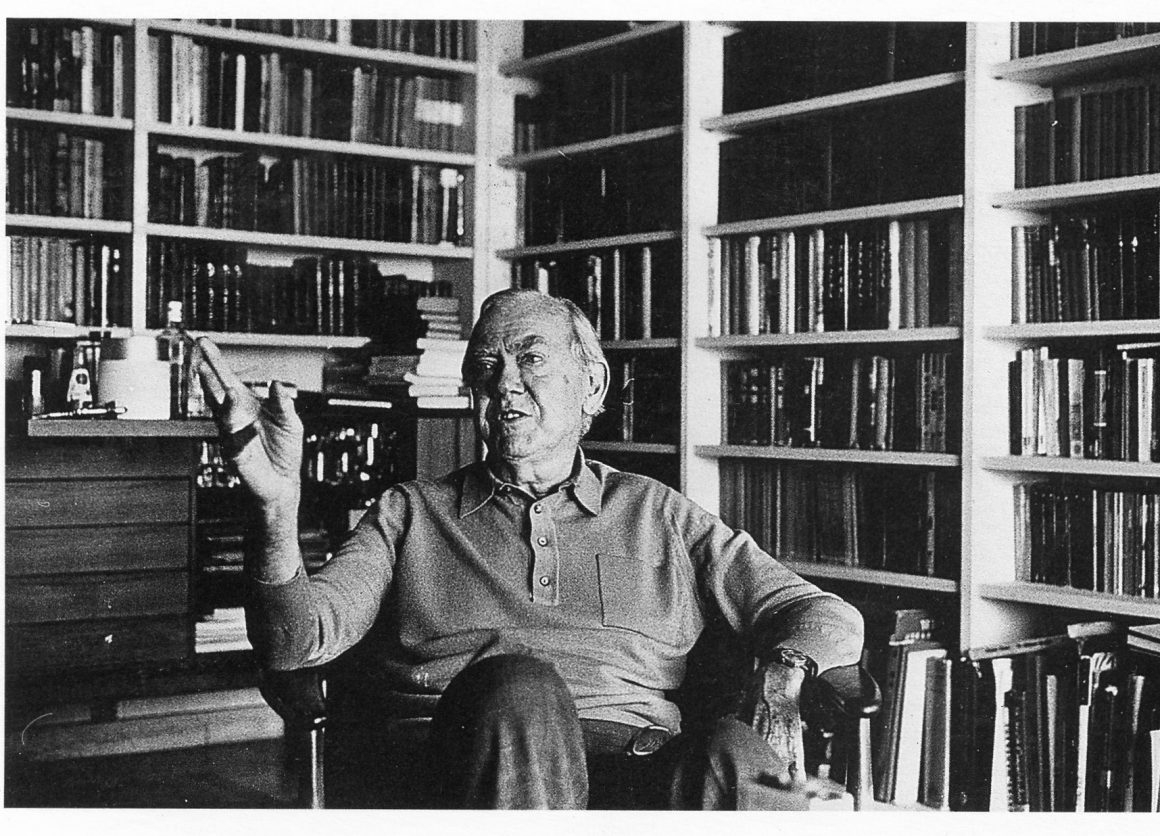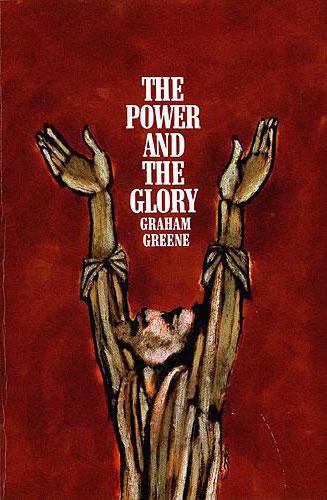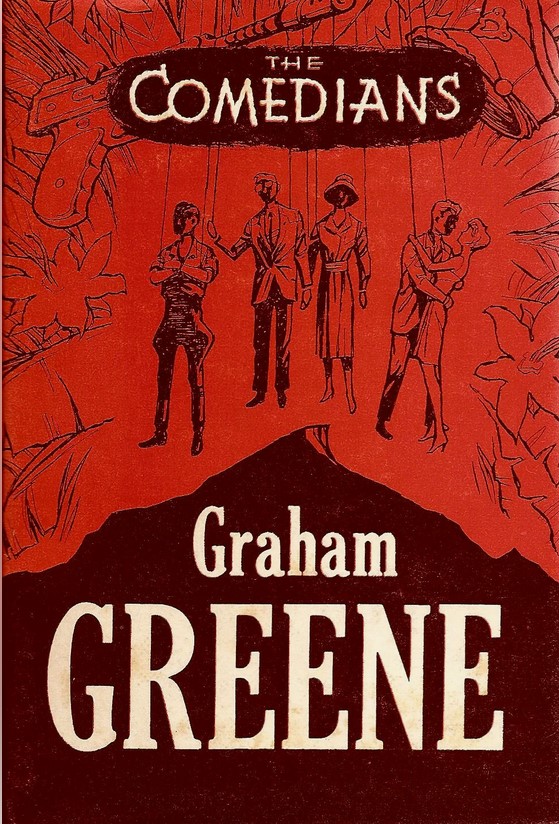33 года назад – 3 апреля 1991 года – ушел из жизни Грэм Грин.
.
Когда лет сто назад я начинал читать Грэма Грина, его «Тихий американец» сначала показался мне нормальной психологической прозой.
Нормальной — значит очень хорошей, другой я не читал. То есть той самой, которая бесхитростному читателю, жаждущему экшена и драйва, представляется нестерпимым кисляйством. В глазах такого простака (а простаки видят свою часть правды, сокрытую от мудрых и утонченных) главный герой романа и сам кисляй — стареющий, ни во что не верящий, ни в чем не желающий участвовать журналист. Повстанцы стараются вытеснить французов из Индокитая, и рано или поздно это им удастся, а, значит, так тому и быть, а ему нужно только дожить свой недолгий век, имея под рукой любимую птичку Фуонг да пару трубок опиума, которые эта самая Фуонг заряжает так заботливо. (Сегодня эти сцены были бы сочтены пропагандой наркотиков.)
И тут появляется американский комсомолец Пайл, ультрапорядочный, непьющий и чуть ли не девственник, свято верующий в демократию, что для главного героя-англичанина несколько смешно (в ту пору для нас было новостью, что американцы чем-то отличаются от англичан). Пайл влюбляется в Фуонг и благородно предлагает ей руку и сердце, чего его немолодой соперник сделать не может (жена-католичка не дает ему развода), и птичка перелетает в более перспективную клетку. Все это развивается с кисляйской неспешностью, но…
Пайл для внедрения демократии поставляет взрывчатку «третьей силе» — бежавшему в горы авантюристу, и тот устраивает жуткий террористический акт, в котором погибает куча ни в чем не повинного народа. Добродетельный Пайл, конечно, огорчен, но утешается тем, что жертвы теракта погибли за демократию. И пожилой циник, видя, что этого демократического комсомольца ничем не прошибешь, сдает его подпольщикам.
В итоге возникает удивительный гибрид психологической драмы и политического триллера, рассказанный изверившимся кисляем, лишь силой обстоятельств вовлеченным в борьбу, в которую он не верит.
«После ужина я сидел у себя в комнате на улице Катина и дожидался Пайла. Он сказал: “Я буду у вас не позже десяти”, — но когда настала полночь, я не смог больше ждать и вышел из дома. У входа, на площадке, сидели на корточках старухи в черных штанах: стоял февраль, и в постели им, наверно, было слишком жарко. Лениво нажимая на педали, велорикша проехал к реке; там разгружались новые американские самолеты и ярко горели фонари.
…Я заметил, что она стала причесываться по-другому, и ее гладкие черные волосы теперь падали прямо на плечи.
…Любить аннамитку — это все равно, что любить птицу: они чирикают и поют у вас на подушке. Было время, когда мне казалось, что ни одна птица на свете не поет так, как Фуонг. Я протянул руку и дотронулся до ее запястья, — и кости у них такие же хрупкие, как у птицы».
По этой же формуле построен и другой знаменитый роман Грэма Грина «Комедианты», декорацией к которому служит уже не Индокитай, а Гаити эпохи жуткой диктатуры «папы Дювалье». Главный герой тоже унылый авантюрист поневоле, и ему идейно противостоит опять-таки парочка американских идеалистов-вегетарианцев, упорно не желающих видеть реальность сквозь свои розовые очки: если верить Грину, главный грех американцев вовсе не алчность и прагматизм, в чем их обычно обвиняют, но, напротив, инфантильный идеализм. Они враги всякой тирании и защитники чернокожих, но как быть, когда тиранию осуществляют чернокожие?.. Впрочем, официальная Америка вполне готова закрывать глаза на ужасы черных, лишь бы они противостояли красным: лучше Дювалье, чем Кастро.
В лучшем романе Грина «Сила и слава» действие опять-таки происходит в экзотическом штате Мексики, и снова принужденным к подвигу оказывается персонаж, нисколько этого не желающий, — пьющий священник, обреченный на казнь очередной атеистической революцией из-за своего служения. И вся эта борьба не на жизнь, а на смерть снова предельно деромантизируется: и герой некрасив и не героичен, и экзотическая страна изображена предельно обыденно…
Используя язык простодушного читателя, можно, пожалуй, так определить формулу Грина: рассказанная умным кисляем захватывающая история, сплетающая воедино агрессивную политику и тщетно противящуюся ей частную жизнь. И книга Александра Ливерганта «Грэм Грин» (М., 2017) очень хорошо раскрывает личность создателя этой формулы.
Документальная книга читается, как увлекательная проза с заведомо хорошим концом, ибо биография знаменитого писателя это всегда биография победителя, биография красавца-лебедя, каким бы гадким утенком он ни начинал свой жизненный путь.
Я хотел было извиниться за слишком длинные цитаты, но потом подумал, что за цитаты, рисующие детство утенка с такой точностью, следует скорее благодарить.
«Няня отличала Грэма от остальных детей, жалела мальчика, росшего тревожным, замкнутым и диковатым. Когда в 1971 году младшая сестра Грина, сидя в больнице у постели престарелой няни, читала ей только что вышедшую автобиографию своего знаменитого брата, умирающая прервала ее словами: «Грэм был такой сладкий мальчик, как же мне грустно, что в школе ему приходилось так тяжело».
Многие воспоминания «сладкого мальчика» неотделимы от страхов. У чувствительного, по любому поводу плачущего Грэма (над рассказом о детях, которых хоронили птицы, он однажды прорыдал всю ночь) страх вызывало всё. «Страх и уют сопровождали жизнь, — напишет Грин в 1926 году в стихотворении “Лекарство от грусти”. — Страх без уюта жил, уют без страха — нет». Боялся ложиться вечером спать; боялся ночных кошмаров, которые потом преследовали его всю жизнь и не раз повторялись. Сны снились не только страшные, но и провиденциальные: семейная легенда гласит, что, когда Грэму было семь лет, ему приснилось кораблекрушение (человек в клеенчатом плаще согнулся в три погибели под ударом гигантской волны) — и в эту самую ночь затонул «Титаник». Стремясь отогнать кошмары, брал с собой в постель игрушечного медведя, или кролика, или синюю плюшевую птичку и требовал, чтобы няня зажигала ночник (не спать же в темноте!), отставляла приоткрытой дверь, чтобы слышны были голоса взрослых с ведущей в спальню лестницы. Случалось, нарочно ронял медведя или кролика на пол и звал няню – пусть подберет игрушку, укроет и приласкает. Или среди ночи вставал, выбегал из спальни и усаживался на ступеньках лестницы. А то как бы не прокралась к нему коварная ведьма, что подглядывала за ним, Грэм точно знал, из-за комода, — тут уж плюшевая птичка не выручит. Боялся обшитой зеленым сукном двери, ведущей из Школьного дома в здание школы, «где начались мои мучения». Боялся – и не только в детстве — смотреть на воду, ведь где вода, там и утопленники: в местной газете не раз писали, что из канала выловлено тело и ведется расследование. И на небо: после того, как за городом рухнул одноместный аэроплан, которым управлял некий Уимбуш, ему стало казаться, что «аэроплан может упасть от одного моего взгляда». Боялся зверей в клетках: придя в зоопарк впервые, разнервничался, уселся на землю и заявил: «Я устал. Отведите меня домой». Боялся летучих мышей, птиц и даже мух, требовал, чтобы на ночь в спальне наглухо закрывали окна. Боялся, как бы в доме среди ночи не вспыхнул пожар. Со страхом прислушивался к шуму защелкиваемых замков и задвигаемых щеколд — отец запирал на ночь дом. Боялся шагов по лестнице, чужих людей. И не чужих тоже. Наставник приготовительного класса мистер Фрост — и не столько сам Фрост, сколько его «веселый, людоедский хохот» и длинная, до полу, черная учительская мантия, которую он запахивал «театральным жестом», – вызывали у мальчика панический страх, и он пропускал занятия под любым предлогом, далеко не всегда благовидным.
И страхами своими не делился, тщательно их скрывал. Вообще был скрытен, считал, что с взрослыми лучше не откровенничать».
Каким ты был, таким остался, — это относится не только к Грину, но и к любому из нас: какими мы были в раннем детстве, покуда еще не научились носить социальные маски, — это и есть наша глубинная суть. Которую не обманешь, сколько бы пугливый и мнительный мальчик, повзрослев, ни нарывался на опасные путешествия по горячим точкам. Зато лишь реальные опасности могли заглушить уныние, навеки поселившееся в его душе.
«Парадоксов хватает и у самого Грина, не только у героев его книг. «Желание покоя и тишины», о чем он так часто вздыхают его герои, сочетается у него с неустанной, лихорадочной, какой-то почти патологической «охотой к перемене мест». В бегстве от тяжелых, затяжных депрессий Грин, как уже говорилось, изъездил весь земной шар, побывал, и не один раз, чуть ли не во всех «горячих точках». Рисковал, нередко совершенно сознательно: игрой в русскую рулетку увлекался всю жизнь, с младых ногтей до глубокой старости. Постоянные, с самого детства, мысли о самоубийстве и не только мысли (в подростковые годы он многократно, с упорством, достойным лучшего применения, покушался на жизнь), передались и его героям.
…Импульсивность, обидчивость, гневливость, сумасбродство, безудержные вспышки ярости соседствуют у Грина с некоторой отрешенностью, «льдинкой в сердце». Его многолетняя подруга и — по совместительству — секретарь Ивонн Клоэтта, описывая парадоксальный характер своего друга и кумира, не раз приводила в пример это словосочетание из «Комедиантов»».
Унылый и не слишком правоверный католик, менее всего напоминающий Дон Жуана, постоянно сожительствует с чужими женами, — могут сказать, что эта склонность Грэма Грина не имеет отношения к литературе — так вот и нет, очень даже имеет: уж слишком часто его герои любят тех, с кем не имеют возможности соединиться, и остывают к тем, с кем соединиться удалось. Подобным же образом он, как и многие писатели, находил утешение от той реальности, на которую обречены смертные, в собственном выдуманном мире: «Грин, по отзывам хорошо его знавших, часто бывал подавлен, раздражен, уходил в себя, и если б не писательский труд, который он — и не он один — считал «формой терапии», не постоянные увлечения, не сопряженные с риском странствия, — игра в русскую рулетку, боюсь, не затянулась бы так надолго».
«Левый уклон» Грина, приковавший его к Советскому Союзу, возможно, был сродни его неспособности хранить верность законной жене.
««Если бы я должен был выбирать, где жить, в Нью-Йорке или в Москве, я, конечно, не задумываясь, выбрал бы Москву». И в этом утверждении не было ни капли лицемерия. Писатель отчетливо левых взглядов, Грин всегда с сочувствием писал о коммунистах — вспомним доктора Мажио из «Комедиантов» или южноафриканца Карсона из «Человеческого фактора», или бывшего мэра Санчо из «Монсиньра Кихота». Любил рассуждать, особенно когда бывал в России, об общности коммунизма и католицизма, леворадикальные и религиозные взгляды не противопоставлял друг другу, что мы увидим в «Почетном консуле» и, конечно же, в «Монсиньоре Кихоте». Не раз вставал на сторону левых режимов, в том числе и радикальных, высоко ставил Кастро, Альенде, Омара Торрихоса, Норьегу. Об СССР неизменно писал и говорил с воодушевлением, еще в оксфордские времена, как мы уже писали, вступил в компартию — главным образом ради того, чтобы побывать в первой в мире стране, строящей социализм. В России бывал многократно, завел у нас немало друзей — писателей, журналистов, критиков, художников. Никогда не отказывал советским газетчикам в интервью, с легкостью предоставлял права на перевод и публикацию своих произведений советским издательствам и, прежде всего, журналу «Иностранная литература»».
«Но чем большую симпатию испытываешь к стране, тем активнее борешься с творящимися там беззакониями», — он высказывался об СССР и так.
«В ответ на отказ передать его гонорары женам Синявского и Даниэля Грин запрещает публиковать свои произведения в СССР, однако и тогда от страны «развитого социализма» не открещивается. «Я остаюсь поклонником Советского Союза и коммунистической системы, — говорит он в том же выступлении в ПЕН-клубе. — В конце концов, в любом правительстве имеется заговор дураков»».
Однако большой вопрос, кто лучше понимал ситуацию и кто кого использовал, — советские начальники Грэма Грина или Грэм Грин советских начальников. Он хотел сохранить государственную собственность и государственное планирование, в коем и заключалась суть коммунистической системы, присоединив к ней индивидуальные свободы западного мира. Однако тотальное планирование несовместимо со свободами. Заставить миллионы людей действовать по какому бы то ни было единому плану может лишь армейская иерархия, и мы напрасно спорим, кто разрушил российскую экономику — Горбачев, Ельцын или мировая закулиса, — ее разрушила свобода.
Мудрее, чем принятая им социальная роль, была глубинная натура Грэма Грина: именно она диктовала ему политическое безверие его любимых персонажей. Да и религиозная его вера была весьма и весьма «лайт», как выражается сегодняшняя молодежь. В предсмертном интервью теологу и журналисту Колдуэллу Грин выражался ясно и жестко.
«- Вы верите в грех в теологическом смысле?
– В слове «грех» есть что-то догматическое. «Преступление» – другое дело. А вот в «грехе» чувствуется что-то жреческое.
– Вы верите в дьявола или в демонов?
– Нет, не думаю.
– А в ангелов?
– И в ангелов, пожалуй, тоже (смеется).
– А в ад Вы верите?
– Я не верю в ад. И никогда не верил. В этом понятии есть что-то противоречивое. Ведь говорят же нам, что Бог – это милосердие. Скорее есть пустота, а не ад.
– А в загробную жизнь верите?
– Мне хотелось бы в нее верить. В этом есть некая тайна…
– А в рай, в Небеса верите?
– Не могу вообразить, что собой представляют Небеса….
– А каким Вы себе представляете Бога? Вы созерцаете Бога в абсолютном, бестелесном виде?
– Боюсь, что нет.
– Для Вас Бог – Христос?
– Да, нет, больше… да, что-то близкое…
На предположение Корнуэлла, и предположение совершенно справедливое, что для Грина вера — это борьба, Грин реагирует в привычном для себя ключе:
– Нет, дело обстоит хуже. Моя вера недостаточно сильна, чтобы называться верой.
Выслушав последний вопрос Корнуэлла: «Вы боитесь смерти?» Грин сказал то же, что и на смертном одре: «Нет, и особенно теперь. Мне хотелось бы, чтобы она наступила быстрей»».
Натуру не одолеть — этого принципа герои Грина придерживаются по отношению ко всему человечеству. А в самом классике ни мировая слава, ни огромные доходы, ни путешествия, ни любовницы не сумели пробудить любви к жизни. Можно лишь надеяться, что они ослабили страх смерти. При тех картах, которые ему выдала судьба, Грэм Грин сыграл, пожалуй, идеальную партию.
Александр Мелихов