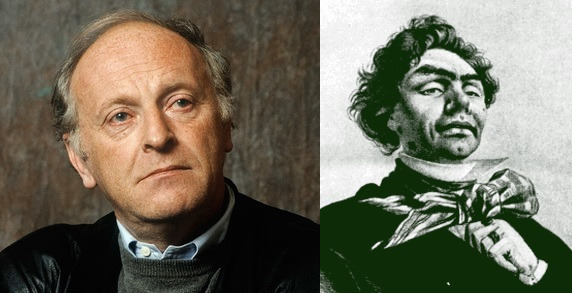Как известно, личные архивы Бродского засекречены, согласно его воле, до 2045 года. Но редакции “Города 812” – методом дистанционного аналитического прозрения, особенно обострившегося в условиях пандемийной самоизоляции – удалось, не выходя из комнаты, сделать важное литературоведческое открытие.
Согласно нашей карантинной гипотезе, поэзия Иосифа Броского – не что иное, как неопубликованные в свое время, но сохранившиеся в знаменитой папке “d’inachevé” («из не оконченного») черновые – но от этого ничуть не менее прекрасные – варианты виршей великого мыслителя и рифмослагателя позапрошлого столетия.
Публикуем два из найденных нами шедевров, скромно посвящая их надвигающемуся юбилею Нобелевского лауреата.
Благодарность, или Мой портрет
Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг (Вариант: «На коем фрак»);
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
…Кого власы подъяты в беспорядке;
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке,-
Знай: это я!
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
…Кого язвят со злостью вечно новой,
Из рода в род;
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвет;
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
…Кто ни пред кем спины не клонит гибкой,-
Знай: это я!..
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
…В моих устах спокойная улыбка,
В груди — змея!
Иосиф Бродский. Благодарность
Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность
Козьма Прутков. Мой портрет
Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг*; (Вариант: «На коем фрак». Прим. К.Пруткова).
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке;
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке,-
Знай: это я!
Кого язвят со злостью вечно новой,
Из рода в род;
С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвет;
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой,-
Знай: это я!..
В моих устах спокойная улыбка,
В груди — змея!
Письмо древнему римскому другу
Нынче ветрено и волны с перехлёстом.
Я лежу, протёкши чреслом, на подруге.
И хотя была здесь раньше рифма: «Постум» –
Мне плевать. Я – Аццкий центр в Девятом Круге…
Ад морозит до известного предела:
Ноль по Кельвину – и всё! Конец интриги.
Богу нет до нас давно, похоже, дела.
Бросил в бездну нас, как ржавые вериги…
Посылаю, Постум, (всё же ты пробрался!)
Эти книги – что сильней Гуно и Гёте.
Я их бережно читал, порой смеялся
Со своими чудо-рифмами в полёте
Вкруг светильника ума крылами бился…
Сукин сын ли я? Ответь, мне, право, лестно…
Я немножко даже в автора влюбился, –
На Олимпе нам вдвоем совсем не тесно…
Или всё же на Парнасе? Где же, Постум,
Нам достойнее купаться в эмпиреях?
Иль кружиться? Да скажи мне, Постум, просто –
Боги ль мы ещё в моих Гипербореях!..
Но вернёмся к данной теме. Вот барыга.
Помер, значит. Да и хрен с ним. Вот военный…
До чего же это гемор охуенный –
Мертвецов считать! Что кислая отрыга!..
.
Только должен! Ибо призван, стиснув скуку,
Пестом слова истолочь земли причуды.
Парадоксам протянуть по дружбе руку
И рассыпать громких перлов изумруды…
Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
Но съедобней, чем журавль и чем синица!
Если выпало в Задрищенске родиться,
Не забудь, что есть ещё Нью-Йорк и Ницца!..
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Помни главное – успеть пожить на Юге!
Говоришь, что все удачники – ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца!
Да, чуть было не забыл, ау, гетера,
Как ты там внизу? Ещё не околела?
Что? Сестерций с покрывающего тела?!
Ахаха! Что есть любовь? Фантом, химера…
Вот прошли мы этот путь до половины.
Где же лес, который Сумрачным зовётся?
Вкруг – всё те ж бесцветные картины,
И рабы с кошёлками – и хрен кто улыбнётся!
Был в бистро. Сейчас вожусь с больным желудком.
Разыщу бумаги лист – подам шерифу…
День, ты знаешь, мой расписан по минуткам,
Что бывает не успеть закончить рифму!
Скоро, Постум, друг твой, любящий служенье,
Пустит в дом к себе на службу Аполлона,
Что слегка поднаторел в стихосложенье,
Но нуждается в руке Пигмалиона!
Понт шумит в висках, в ушах, в листах тетради.
Мир в смущении застыл – немой, уродский.
На рассохшейся скамейке лысый дядя
Чертит ножичком: «Здесь был Иосиф Бродский».
Даниил Коцюбинский