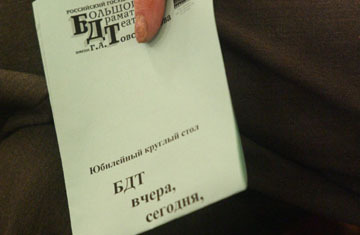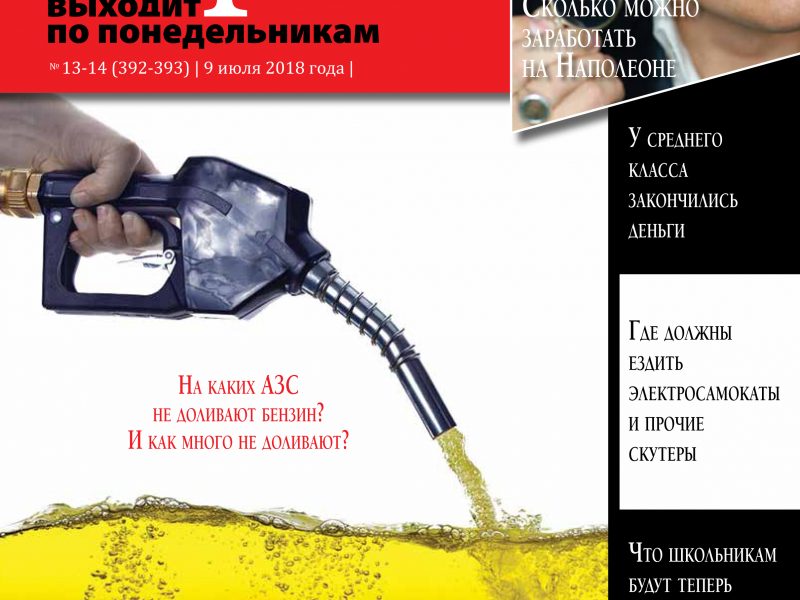Заканчивается очередной театральный сезон. Время подвести какие-то итоги. Ну, что у нас новенького… Сезон-2009 – 2010 запомнится несколькими первоклассными премьерами, парой-тройкой скандалов и тремя славными юбилеями*. А еще тем, что незаметно ушла целая театральная эпоха, которую замечательный критик Леонид Попов назвал промежуток времени с 1989-го по 1999-й «посттовстоноговским десятилетием».
Десять лет назад
В конце девяностых в петербургском театре было уже многое проиграно, но, казалось, еще ничего не потеряно. Андрей Могучий только что выпустил ныне легендарную “Школу для дураков”, на Литейном успешно работал Григорий Дитятковский, в “Балтдоме” – Владимир Туманов. Позор с увольнением Анатолия Праудина из ТЮЗа завершился скверно для ТЮЗа, но вполне плодотворно для самого режиссера и ушедших с ним артистов.
В БДТ, только что насладившемся тогда заслуженным успехом “Бориса Годунова” Темура Чхеидзе, мог работать не только Николай Пинигин (что, в общем, не фокус), но и Адольф Шапиро. Правда, совсем недолго. Да что Шапиро! В Театре комедии Татьяна Казакова ставила “Деревенскую жену”, не говоря уже о “Влюбленных” – и это все еще было похоже на спектакль! Как-то уже не верится сейчас.
Более того. В начале нулевых действующим постановщиком в Питере вновь стал Вениамин Фильштинский. Решившийся позвать его “Приют комедианта” наконец-то смог сделать серьезное лицо (тогда Виктор Минков хотел, чтобы лицо его театра имело в своем запасе и такое выражение). Театр имени Ленсовета был театром Владислава Пази, и поставленный им десять лет назад “Жак и его господин” многим еще внушал надежды.
Свой первый “взрослый” спектакль выпустил Руслан Кудашов – началась история театра “Потудань”. Свой лучший спектакль – “Калигулу” с Константином Хабенским – поставил в Театре Ленсовета Юрий Бутусов. Григорий Козлов выпустил “Лес” и “P.S. капельмейстера Крейслера…” – умудрившись ненадолго создать феномен “достойного спектакля, сильного не столько режиссурой, сколько актерскими работами”.
В “Балтийском доме” давали резвиться Владимиру Тыкке, но к отбору приглашенных режиссеров подходили со снайперской четкостью. И именно тогда под крышей этого театра прижились четыре коллектива, составившие славу театральных питерских нулевых: “Формальный театр”, “Фарсы”, Экспериментальная сцена Праудина, “Потудань”. И, разумеется, у нас был МДТ.
В возглавляемом Кириллом Лавровым БДТ все еще ждали “второго Товстоногова”, в Театре имени Комиссаржевской – единственного Морфова. Молодежный театр праздновал юбилеи (их там исправно отмечают каждые пять лет) и стремительно превращался в культурную резервацию для неприхотливых провинциалов. Роскошествовала Александринка: спектакли выпускались такой непроходимой тупости и помпезности, что было в этом даже что-то героическое. Бог ты мой, какого “Бориса Годунова” там отгрохали! А “Дон Жуана”! А ведь были и вовсе спектакли Александра Белинского. Работал там и Роман Смирнов – тогда многим нравилось думать, что он ставит ужасно загадочные спектакли.
И мало, наверное, кто помнит, но десять лет назад в театре “Особняк” ставили Михаила Угарова (еще не увенчанного титулом “идеолога новой драмы”). Пьеса называлась “Зеленые щеки апреля”.
Десять лет спустя
Ну и где, спрашивается, сейчас все эти “зеленые щеки”? Где прошлогодний снег? За прошедшие десять лет изменился не только “списочный состав” петербургской режиссуры и актерского цеха – изменился главный вектор: время из “пост- (товстоноговского, разумеется, товстоноговского) стало “пред-“. И место после дефиса вакантно. И там вряд ли будет стоять чье-то единственное имя.
С одной стороны, да – предчувствиями томимся не от хорошей жизни. От катастрофы петербургскую сцену отделяют лишь титанические усилия отдельных художников. Можно сказать, что так всегда и происходит, таков механизм работы культуры – чудом держать над пропастью, но – нет, это не совсем тот случай.
Не успев отметить свой юбилей, с карты города исчез Русский инженерный театр АХЕ – по причинам “противопожарной безопасности”. И меры надо принимать экстренные – не только для того, чтобы АХЕ не последовал по пути успешных в Европе невербальных российских театров (город, которому оказался не нужен театр “Дерево”, достоин своего Театра комедии). Но еще и потому, что АХЕ оборвали на вздохе, – театр только-только вошел в золотую пору, а можно ли сразу взять такую высоту после простоя – еще вопрос.
Никаких пожарных не пришлось вызывать, чтобы закрылись “Фарсы”. Причины внутренние: энергия распада оказалась сильнее энергии созидания. Виктор Крамер изредка что-то ставит в Питере. Из четверых участников первого легендарного спектакля на сцене остался один – Сергей Бызгу. Он гарантированно прекрасен. Но горечи в этой истории от этого меньше не становится.
За прошедшие десять лет театральная общественность как-то успела смириться с тем, что в городе нет таких театров, как ТЮЗ, Театр комедии, Театр на Литейном. То есть здания есть, и даже спектакли там идут, но “производство художественных образов”, скажем так, заморожено до особого распоряжения. Похожая история происходит с “Балтийским домом” – три из четырех “театров-спутников” покинули здание, отбор режиссеров на постановки и названий репертуара стал откровенно случайным, Тыкке заменили Коняевым (без прежних полномочий, но с тем же успехом). Лицо театру помогает держать ежегодный фестиваль – к этому уже тоже давно привыкли.
Редкую стабильность все эти годы демонстрирует Молодежный театр под руководством Семена Спивака. Но эта стабильность – следствие весьма распространенного в Петербурге художественного аутизма, неспособности к усвоению новой эстетической информации. Это стабильность в изготовлении глиняных кошечек и ковриков с оленями. Хотя буквально несколько дней назад именно в Молодежном театре (получившем новую сцену) состоялась премьера “Валентинова дня” в постановке Алексея Янковского – известного своими небанальными решениями режиссера, которого город все как-то не удосуживается “зафиксировать”. А “Поздняя любовь”, поставленная в этом театре, вернула в строй Владимира Туманова, молчавшего много лет.
В БДТ по-прежнему пребывают в ожидании чего-то – теперь длительного ремонта. В Комиссаржевке, как водится, ждут Морфова, рискуя побить рекорд Пенелопы. А вот в Театре имени Ленсовета, похоже, уже дождались. Театр возглавил Гарольд Стрелков – и это было бы смешно (его собственные спектакли настолько беспомощны, что ставят под сомнение профессиональную компетентность), когда бы не было серьезно: Стрелков набирает курс на Моховой – будет чему-то учить. Наверное. И вот от этой новости до слова “катастрофа” уже как-то совсем недалеко.
Да, кстати, у нас же был МДТ! Несомненно, что теперь его у нас намного меньше.
В городе по-прежнему работают Лев Эренбург (государственный статус НДТ на сроки выпуска “Трех сестер” никак не повлиял), Анатолий Праудин, Андрей Могучий. На заболоченной пустоши Театра сатиры возник Театр на Васильевском – пришел Бубень, сделал труппу. Центральное место в театральной жизни города (а не только на Невском проспекте) занял Александринский театр. Валерий Фокин совершил, кажется, невозможное – напомнил заспанному, залежавшемуся до пролежней Петербургу про “тысячелетье на дворе”.
Многие, особенно сладко посапывающие (заниматься творчеством, не приходя в сознание, – петербургский тренд) от неожиданности попадали с диванов. Некоторые ушиблись головой. А в Александринке меж тем идут спектакли европейского уровня, преодолеваются все возможные “языковые барьеры” – дело не только в приглашении режиссеров-легионеров, но и в том, как актеры от постановки к постановке осваивают язык современной режиссуры. За шесть лет пребывания Фокина в Александринке петербургский театр попытался восстановить все имеющиеся у него лакуны в мировом театральном контексте, пройти “непройденное”, досдать “хвосты”. Через двадцать лет, наверное, можно будет лениво рассуждать, что “русский театр никогда не станет европейским, как и Россия – Европой”, но сейчас у нас по крайней мере есть шанс.
Через десять лет
А вот чего у петербургского театра нет совсем – это, как говорили в одном советском фильме, “расписания на послезавтра”. В 1916 году, согласно Маяковскому, “из Петрограда исчезли красивые люди”, в начале нулевых – молодые режиссеры. И перспективы смутны. Маховик академии на Моховой крутится, отапливая холодный космос, никакой иной полезной работы не производя.
Неизвестно, что хуже: когда выпускники-режиссеры не показываются на поверхности, сразу сгинув на ТВ, или когда показываются – вот, как на лаборатории “ON. TEATR”, к примеру. Или получая право на постановку в театре (от режиссеров Корионова и Чернышова не ждали шедевров – еще рано, но хотя бы серьезной заявки – нет, видимо, уже поздно). В первом случае нам остаются хотя бы иллюзии. Во втором, помимо радости любования юным румянцем, только одно: признать, что выучены они безобразно плохо.
“Дайте молодым режиссерам возможность ошибиться!” – призывают все, в том числе – недавно – Валерий Фокин. С этим невозможно не согласиться – молодежи нужны площадки, нужны возможности для нормальной работы, условия для постановок. (О свободных площадках в городе разговоры ведутся много лет – и, кажется, решения уже приняты, но пока еще ничего не произошло. Зато нечто архитектурно феерическое получил в свое распоряжение театр “Буфф”. На кой черт в городе этот монументальный оплот буффонады, понять невозможно). Надежда на то, что у молодых режиссеров появится возможность ошибаться, существует. Но если ничего не изменится, этой возможностью они и ограничатся. Потому что ошибка – системная.
Дело ведь не только в том, что молодые дарования скверно обучены ремеслу и под завязку набиты пошлейшими штампами своих педагогов. Дело еще и в контексте. Важно, что дитя видело вокруг, когда росло. А оно видело Театр комедии, ТЮЗ, Литейный и т.д. – в общем, см. выше.
Важно не то, что там внутри все грустно, а в господствующем мнении, что так ставить и играть в принципе можно. Ну то есть – да, на здоровье, если вас интересуют только кассовые сборы. Но от этого бездумного потакания массовым вкусам почему-то перестают рождаться талантливые дети. И тут не отделаться одними фестивалями – ни Балтдомовским, ни Александринским. Потому что, если, глядя на спектакли Някрошюса или Тальхаймера, дитя с режиссерским дипломом хочет “найти там что-то свое” и, капризно дуя губы, вопрошает “а где же тут про человека?” – начинаешь жалеть о недостаточном употреблении розог в театральном образовании.
Необходим местный, незаемный контекст действенных театральных практик. Недаром Александринский театр открывает собственную школу – свой опыт уже есть, важно, чтобы было, кому его передать.
И как только мы разберемся с профессиональными кондициями… остро встанет вопрос о мировоззрении – тех, кто в профессию приходит. И наверняка придется еще “немножечко подождать” – вспомнив, чем эти прошедшие десять лет были для страны. (И вопросов, вроде “отчего это у нас не появляются молодые люди, способные создавать ослепительные миры”, как-то становится меньше.)
Но в любом случае именно предощущением выхода на сцену нового поколения художников живет в конце первого десятилетия века театральный Петербург.