Сбылась моя давняя мечта – в Сети появилась полная версия статьи Игоря Моисеевича Клямкина “Какая улица ведёт к храму?” – одного из тех фундаментальных текстов времён Перестройки, которые в полном смысле слова перевернули, а лучше сказать, раскрепостили сознание общества. В неменьшей, думаю, степени, чем то, что говорил и делал в ту прекрасную пору сам инициатор перемен – М.С. Горбачев.
Большая часть “системно-либеральной” интеллигенции тех лет подвизалась в роли греческого хора при генсеке-реформаторе, который, как известно, не шёл дальше сказок о социализме с человеческим лицом как чудо-лепрозории, где – согласно заветам доброго дедушки Ленина – всех нас “вылечат” без неприятных процедур – т.е. без частной собственности и прочих “ужасов капитализма”.
Но были те, кто пытался честно и независимо смотреть в лицо истории – как прошлому, так и будущему. И кто видел, что не в “плохом Сталине”, извратившем “заветы хорошего Ленина”, корень всех проблем и бед. Что истоки российского бесправия – куда более древние и мощные. И что “рыночный социализм” как альтернатива капитализму – просто очередная разводка, за обольщение которой уже очень скоро придётся расплачиваться крахом всех своих детских иллюзий и упований.
Таких публицистов было очень немного. Я могу назвать всего трёх человек, которые действительно сумели более-менее реалистично “заглянуть за Перестройку”.
Это экономисты Лариса Пияшева и Василий Селюнин. И это философ Игорь Клямкин.
Я помню, какой ажиотаж вызвала его статья, опубликованная в журнале “Новый мир”, у нас на факультете истории в Ленинградском пединституте. Как ко мне на лестнице, где все курили и обсуждали текущие новости, подошел один из преподавателей – Владимир Васильевич Барабанов (позднее он станет деканом, сейчас, к сожалению, его уже нет с нами) и спросил – читал ли я эту статью, которая совершенно по-новому освещает всю нашу историю? (Я в ту пору уже успел “засветиться” выпуском пары вольнодумных стенгазет – думаю, поэтому он и обратился ко мне). Я сказал, что ещё не читал, и в тот же день с жадностью этот текст “заглотил”. И до сих пор остаюсь под впечатлением чего-то очень важного, что я в итоге понял и что стало базой моих представлений об истории в целом и о русской истории, в первую очередь…
Искренне надеюсь, что всем будет интересно окунуться в это далёкое – и в то же время вечно близкое перестроечное прошлое.
И спасибо Игорю Клямкину за то, что он опубликовал, наконец, этот текст в Сети!
Даниил Коцюбинский
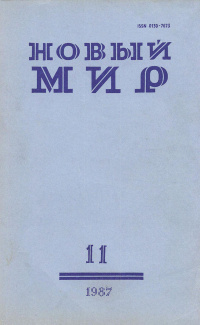
Избранные места из статьи Игоря Клямкина “Какая улица ведет к храму?”
…Павел Пестель — самый, быть может, реалистичный и трезвый политик среди декабристов. Он считал, что подготовить страну к парламентскому правлению может лишь длительная… военная диктатура! Не буду тревожить воображение читателей предположениями о том, что бы это такое могло быть. В этом нет смысла, так как ничего такого быть не могло. Проект Пестеля был отвергнут декабристами: они хотели заменить тиранию демократией, а не новой тиранией.
Но ведь для европейской парламентской демократии в России не было почвы. У правоверного “почвенника” это вызывает патриотический энтузиазм и прилив национальной гордости. Гордиться тут нечем. Было бы лучше, если бы и на нашей “улице” почва для демократии была. Ее отсутствие — факт, с которым нельзя не считаться, а не повод для ликования. Факт неприятный. Но он есть. И он-то, наверное, не только предопределил неуспех всех прошлых попыток либерализации страны, но и выработал в нас стойкий иммунитет к традиции западничества во всех ее разновидностях — от охранительной до революционной.
Наша историческая улица — не лучшая в мире. Но могла ли она быть другой?
Пока Россия копила силы для того, чтобы освободить себя от татарской опеки, Европа накапливала их для прорыва в новую, индустриальную цивилизацию.
Россия вынуждена была пуститься вдогонку. Это стало ее судьбой — догонять, чтобы сохранить независимость. Догонять прежде всего в той области, которая обеспечивает независимость,— в области вооружений. Все остальное приносилось в жертву.
Чтобы ответить на вызов Запада, Россия могла использовать лишь тот инструмент, который был в ее распоряжении и который был создан для борьбы с внешней опасностью,— самодержавие. А самодержавие действовало так, как оно только и могло в то время действовать. Оно ответило на вызов Европы закрепощением крестьян, которое для Запада было уже давним или недавним прошлым. Из крепостных и выкачивали средства и людей для “европеизации” армии и производства.
На Западе вхождение в индустриальную эру сопровождалось ростом свободы. В России — ростом рабства.
…Запад не знал резких культурных и психологических разрывов между образованными слоями и народом; дистанция временами бывала огромной, но пропасти не было.
В России интеллигенция возникла не за несколько столетий, а за несколько послепетровских десятилетий; осваивая научные и технические достижения Европы, она не могла попутно не прихватить и кое-что от европейских общественных идей, либеральных и социалистических, которые в глазах самодержавия чаще всего выглядели крамолой, а патриархальному крестьянину были чужды и непонятны, что и вызвало к жизни до того нигде не виданную “проблему интеллигенции”, отщепленной от государства психологически, а от народа — культурно.
На Западе не было резких диспропорций между технико-экономическим и гуманитарным развитием, а если и имело место несоответствие, то заключалось оно в том, что уровень духовности оказывался значительно ниже уровня материального богатства.
В России, наоборот, хозяйственная отсталость сопровождалась в прошлом веке мало с чем сравнимым духовным взлетом: ко времени, когда выражение “догонять Европу” стало синонимом крутой ломки глубинных основ народной жизни, интеллигенция, отчужденная от государства, целиком сосредоточившая свои силы на общечеловеческих и отечественных “проклятых вопросах”, накопила колоссальную духовную энергию и сполна проявила ее и в литературе, и в искусстве, и в теоретической мысли, и в революционном движении.
…Заслуга славянофилов состояла в том, что они, оправившись от шока, вызванного трагедией 14 декабря, ясно и определенно заявили: Россия — не Запад, у нее своя судьба, а потому нелепо копировать жизнь других народов, надо строить свою собственную, учитывая национальные особенности. Если отбросить полемические перехлесты, то они не отрицали ни значения петровских реформ, ни важности научного и технического развития. Но они считали ненормальным, что реформы эти искусственно разобщили образованных людей и людей из народа: разная одежда, разные манеры, разные привычки, разговаривают на разных языках (и в прямом и в переносном смысле), друг друга не понимают и понять не хотят.
Славянофилы были правы, когда говорили: расколотая нация обречена, она не сможет развить ни науку, ни технику, ни свои духовные силы. Они были правы и тогда, когда выступали против просветительских иллюзий плоского западничества: раз народ темен и забит, то его надо просветить, и тогда, мол, все будет в порядке, пропасть между ним и образованными людьми исчезнет, ее заполнят знания, переданные сведущими несведущим. Славянофилы на это резонно отвечали, что народ не чистый лист бумаги, на котором можно писать все, что вздумается интеллигенции, у него есть своя своеобразная и самобытная культура, она может нравиться или нет, но не считаться с ней нельзя, иначе будешь не просветителем, а проповедником в пустыне. Они хорошо разъясняли, что в основе этой культуры не индивидуальность, не личность, а коллективность, общинность, не “я”, а “мы”, не сольное, а хоровое начало.
Много верного говорили славянофилы… Жаль только, что, вспоминая их, вспоминали не все. Не вспоминали, а если вспоминали, то не задумывались над тем, почему все же “улица”, проложенная воображением славянофилов, оказалась не заселенной ни интеллигенцией, ни народом…
Раскол народа и интеллигенции преодолевался в России не так, как мечтали славянофилы.
…Город всасывал в себя деревню гигантским насосом. Старый уклад жизни исчезал на глазах. Казалось, что вместе с ним исчезает национальный колорит: город слишком высокомерно отстранялся от “деревенщины”, слишком быстро перенимал чужие моды, ритмы, идеи. Было в нем что-то суетливое, поверхностное, неотстоявшееся, изнутри не заполненное, сосредоточенное на внешнем.
Публицисты не успевали регистрировать открытия. Открыли новую болезнь, которую неуклюже обозвали вещизмом. Открыли закон, по которому получалось, что чем лучше люди живут, тем хуже становятся, или, говоря по-ученому, рост материального благосостояния не сопровождается, как думалось раньше, ростом духовным, а сопровождается часто тем, что социологи деликатно назвали “отклоняющимся поведением”. Открыли, что вместе с коммуналками ушло из нашего быта что-то теплое, сближающее, роднящее нас друг с другом, хотя возвращаться в коммуналку никто не хотел.
Открытия ошеломляли, так как они перечеркивали все прежние представления и ожидания. Думали, все беды от бедности. Оказалось, беда подстерегает у входа в достаток… Для многих и многих наступило время беспринципных компромиссов, тайных и нетайных сделок с совестью и самоубийств совести, удивительного лукавства и не менее удивительных самообманов и самооправданий — двойной и тройной бухгалтерии…
Критика требовала от литературы положительного героя. Литература отвечала антигероями Юрия Трифонова; за два десятилетия ничего светлого и цельного не нашла она в нашей городской жизни…
Полный текст статьи – здесь.



