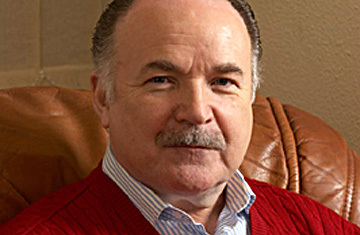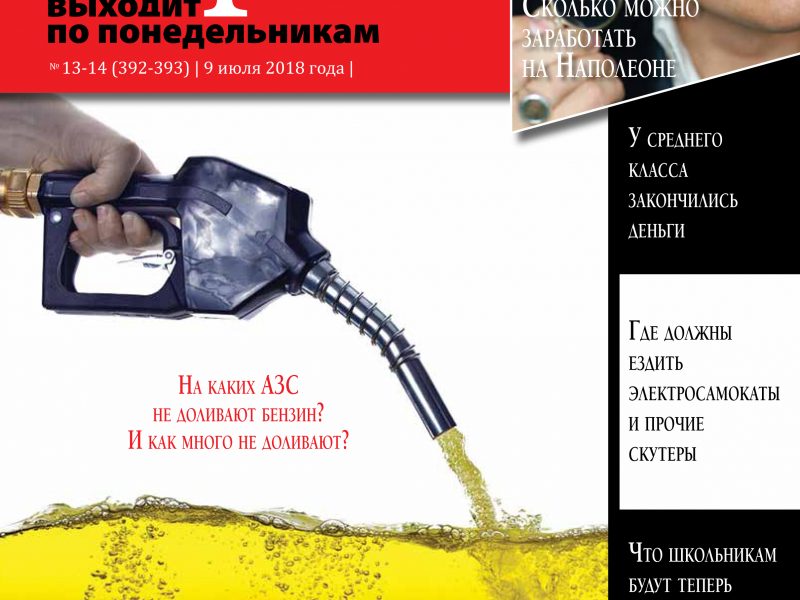Когда-то (в 1989 – 1992 годах) актер и режиссер Николай Губенко был министром культуры. С тех пор много чего произошло – Губенко перестал быть министром, Театр на Таганке распался на две части (любимовскую и губенковскую), вступил в коммунистическую партию. Неизменным осталось только то, что народный артист России Николай Губенко продолжает беспокоиться о судьбах родины. Правда, возможностей у него стало меньше.
– Между вами и коллегами по кино нет раскола?
– Ну, какой раскол? У меня происходит нормальный раскол человека, который прожил с этими людьми тот отрезок жизни, о котором они сейчас дурно отзываются. Берем Рязанова, берем Никиту Михалкова, берем Наумова. Берем любого из ныне здравствующих наших мэтров. За исключением, пожалуй, Меньшова. Все они отбивают чечетку на гробу их бывшего государства. Помните, был такой артист Борис Сичкин? На “Мосфильме” актерским отделом в это время руководил Адольф Гуревич. Так Сичкин говорил так: “У меня с Гуревичем разногласия исключительно по аграрному вопросу. Он хочет, чтобы я лежал в земле, а он отбивал на моем гробу чечетку, а я хочу, чтобы в земле лежал он, а чечетку отбивал я”. Ну, как так можно?
Рязанов, который получил первую свою постановку – “Карнавальная ночь” в 1955 году, в то время как за год тогда снималось десять фильмов. И снимали всё мэтры – Довженко, Герасимов, Ромм, Пудовкин… И вот молодой человек Рязанов получает такой грандиозный по тем временам шоу-проект. И с успехом до сих пор его эксплуатирует.
– Хорошее кино сделал. И какие у вас к Рязанову претензии?
– А дальше все его фильмы были до такой степени востребованы, и публика до такой степени была ими очарованна, что рисовать это мрачными тонами противостояния с властью… Мне не давали это, мне давали то…
– Так на самом деле не давали.
– Простите, в любом государстве, в любой структуре есть идиоты. Что, их мало в Голливуде? В Британском совете мало? Те, кто распределяет гранты на культуру. Огромное количество. Но это не значит, что виновата социальная система. У меня тоже что-то закрывали. Я же не ору на каждом углу, что меня пинали ногами. И Шукшин, которому запрещали “Степана Разина”, тоже не кричал на каждом углу. Никита же в это время получал безлимитную пленку “Кодак”, при том что другие режиссеры, в частности я, получали пленку один к трем. Мне кажется, что это не честно.
– Не честно, что Алексея Германа запрещали. И Муратовой не давали снимать.
– И Аскольдова запрещали, и Киру Муратову запрещали, и Алексея Германа. И мне запретили сценарий “Сотри случайные черты”, который я написал по смерти Шукшина. Тоже запретили. Но вы об этом не знаете. И никто об этом не знает. Леша (Герман. – Прим. авт.) вправе костерить советскую власть точечно и персонально.
– А как не вправе?
– Не режимно. Потому что его папа сотрудничал с этой властью и дал ему то, чего не было у других Леш. Поэтому он может топтать ногами Ермаша, Даля Орлова, главного редактора Госкино. Всех, кто ему не давал это. Но ни в коем случае не социальный строй и не государство рабочих и крестьян, извините.
И вообще, если ты великий художник, а он, по качеству изложения лучших своих работ приближается к этому понятию, то не к лицу тебе размениваться на такого рода диалог с теми, кого уже нет. Хотя я понимаю, что с точки зрения популизма и рекламизма это поддерживает постоянный интерес и дает какие-то дивиденды у власти и потенциальных спонсоров.
– Кстати, ваши последние картины не слишком оптимистичны. Это к чему?
– Печальны они оттого, что жизнь печальна. А что, вы думаете, что на другом континенте, в Италии, она радостна? Оттого, что там солнца больше? Мне печально оттого, что народ до такой степени расколот. Вы посмотрите, скажем, на Грецию. Всеобщая забастовка, двадцать четыре часа в сутки. Никто не выходит на работу, миллионы людей на улицах протестуют против ущемления каких-то их социальных нужд. У нас народ стал безлик. Он перестал бороться, протестовать. Разучился быть самостоятельным. Старичкам добавили тридцать рублей к пенсии, и они пошли голосовать.
– Вот вы стали коммунистом только после перестройки. А до этого кем себя ощущали – диссидентом?
– Я не был членом партии, но я… исповедовал эту веру и иначе не мог. Потому что эту веру исповедовали мои родители и отдали за нее жизнь – отец погиб на фронте, мать была повешена в оккупации румынами. Государство взяло на себя заботу о 19 миллионах таких, как я, сирот, поставило на ноги, дало образование и профессию. Как можно плевать в сторону того государства, которое сделало из тебя человека?
– Вам тяжело жилось в детском доме?
– Мне не тяжело жилось. Любое детство, каким бы тяжелым оно ни было, все равно самое счастливое.
– И как вам, идейному коммунисту, заседается в Московской городской думе с единороссами или яблочниками. Они вас раздражают?
– Яблочники? Нисколько. Я даже должен сказать, что на протяжении трех лет нашего сотрудничества в рамках Мосгордумы партия “Яблоко” и КПРФ, как правило, голосуют одинаково. Почти по всем направлениям. За редким исключением. Представляете такой феномен! А “Единая Россия”, поскольку они излишне политизированы, то иногда похожи на дисциплинарный батальон – голосуют так, как им сказали, а не так, как они думают.
– В Петербурге много спорят о проблемах градостроительства. А у вас в Московской думе с этим как?
– У нас эта тема последнее время будируется довольно часто. Скажем, ситуация с Солженицыным. Президент России издал указ, где попросил правительство Москвы, поскольку это в ведомстве субъекта Федерации, назвать улицу Коммунистическую улицей Солженицына. Такой поверхностный идеологический подход. Нехороший.
– А надо как?
– Вообще, с памятниками неизвестно, что делать. Например, 4 ноября была открыта памятная доска Колчаку. Почитайте Маяковского, почитайте тех, кто жил в то время, когда Колчак шел по Сибири. Он кровавый человек. Но даже сам прецедент открытия этой доски рождает раскол. Общество уже до такой степени расколото, что дробить его на еще более мелкие части, на мой взгляд, непродуктивно. Я бы гасил эти возможности. Ведь это же история государства. Ну, почему испанцы смогли примирить республиканцев и Муссолини? Почему у французов рядом с Наполеоном лежит Гюго? Я не могу этого понять.
– Но большевистский проект слишком неудачный и чересчур кровавый. Зачем его прославлять?
– Ну и что? А разве государство и страна строятся и процветают исключительно на счастливых проектах?
– А как вы относитесь к фильму “Колчак”?
– Я это кино не смотрел.
– Есть какая-то историческая фигура, которая сейчас могла бы объединить людей разных взглядов. О ком сейчас нужно снять кино?
– Я не думаю, что может быть один такой фильм и один такой персонаж. Надо снимать кино про то, что происходит сейчас в стране. Все эти сериалы, менты петербургские, всё это не имеет никакого отношения к жизни.
– Так про что надо снимать?
– Я имею в виду ту эстетику, которая была у лучших режиссеров шестидесятых-семидесятых. А еще точнее, у итальянских неореалистов. Жизнь дарит нам столько конфликтных возможностей для драматургии. Ну, например – Вия Артмане. Разве ее история, это не отражение того, что происходит сейчас и со многими в Прибалтике? Это же родственные нам души. Мы сорок лет жили вместе. Я считаю, что, если бы режиссура нацелилась на окружающую действительность, как в свое время Марлен Хуциев, как Райзман, и вытаскивала сущность человеческих отношений из окружающей жизни, а не из пальца, это было бы продуктивно.
– Вы не ответили про Солженицына: если бы его именем назвали не улицу Коммунистическую, а любую другую – это нормально?
– Называйте любую новую улицу. Зачем вносит раскол? Мне не нравится раскол, мне не нравится технология.
– А вы сами Солженицына когда прочитали – еще при советской власти или после?
– Для меня не было понятия “самиздата”. Если я хотел читать Солженицына, я читал Солженицына.
– А где вы его брали?
– Я ездил за рубеж и брал там. А здесь была целая распространительская сеть.
– Но Солженицына же нельзя было ввозить в Союз?
– Нельзя. А я ввозил. И меня не досматривали. А если бы досмотрели, я бы сказал, что хочу почитать. Что не знал, что нельзя ввозить. Я не испытывал страха. А сейчас я испытываю давление, идеологическую неприязнь со стороны Кремля к таким людям, как я.
– Неужели вашу деятельность запрещают?
– Простите, а отсутствие финансирования театра “Содружество актеров Таганки” в течение шестнадцати лет, это что такое? Это единственный театр в Москве, который не финансируется из бюджета. Это разве не политический подход? Это политический подход.
– Это цензура?
– Нет, не цензура, а просто нет такого театра. Только в этом году нам оказывается некоторая помощь в ремонте здания. Может быть, только потому, что я стал депутатом Мосгордумы. Но не будем этой темы касаться. Кажется, сейчас Юрий Михайлович соблаговолит начать наше финансирование. Не дай бог сглазить.
Елена Некрасова