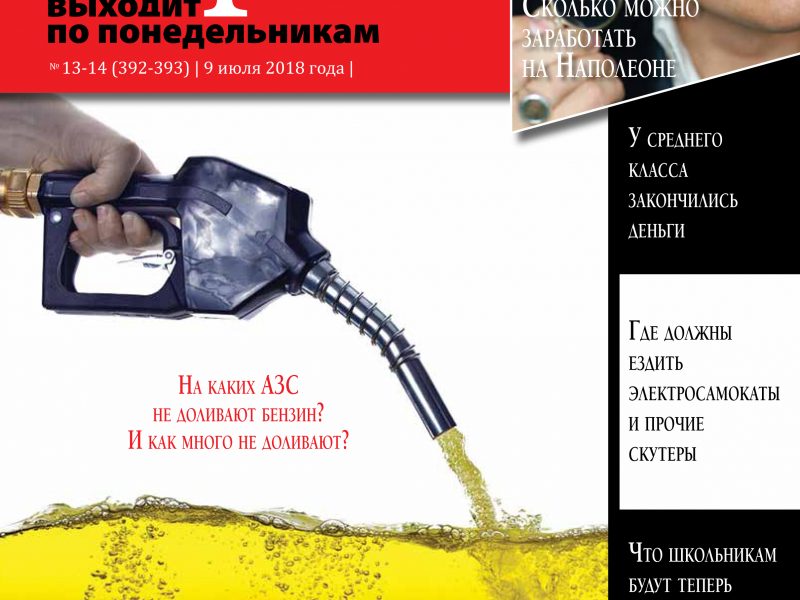Разные люди знают разные ипостаси Линор Горалик. Для кого-то она писательница и литературный критик, для кого-то – человек из Сети. А наш редактор на предложение сделать с ней интервью откликнулся фразой: «Это которая блогерша?». Я начала знакомство с Горалик, прочитав ее «Заяц ПЦ». Это книжка комиксов с глубокими, подчас трагическими замечаниями. При этом она пишет исследовательские работы о феномене куклы Барби и его культурном значении.
Горалик родилась в Советском Союзе, а университет окончила в Израиле. Теперь живет и в России, и в Лондоне, и еще много где. Она везде и нигде. Вы хотите встретиться с ней – но ее нет, она уже улетела за тридевять земель, но при этом вы успешно можете общаться с нею в интернете.
– По вашим текстам не поймешь, к какой культурной или национальной традиции вы принадлежите. А когда вы читаете текст, вы понимаете, к какой традиции принадлежит автор?
– Мне сложно об этом говорить, потому что я уже много лет не читаю художественную литературу. Нет, я читаю страшное количество, но это все нон-фикшен.
– Почему так?
– Не могу объяснить почему, но не могу прочитать не одну художественную книгу. Это бывает. Я знаю людей, у которых это происходит с возрастом, как и у меня. Так вот, когда читаешь много нон-фикшен, ты всегда видишь, на какой позиции стоит человек. Ты видишь не только, к какой культуре он себя причисляет. Ты видишь, к какой социальной группе и к какому поколению он себя причисляет.
– Если человек делает это намеренно, то зачем он это делает?
– Во-первых, я понятия не имею. Но субъективно ощущаю, что это бывает, когда человек чувствует, что есть явление или силы, угрожающие не только ему лично, но и миру, к которому он себя причисляет. И когда он готов выступать при помощи своих текстов не на защиту лично себя, но на защиту этого мира. Тогда он начинает говорить от имени “мы” и стараться четко сформулировать, кто такие “мы”.
– Это противостояние наступающей глобализации?
– Сейчас, мы находимся во вполне уникальной ситуации, когда понятно, что мир опять перетряхивается от крыши до подвала. Что на арену выходят другие силы. Цивилизация опять становится совершенно другой. Опять погибает одна империя, а на ее место вступает другая империя.
– Какая цивилизация меняется – русская, западная или вообще вся?
– Я не знаю ничего о третьем мире. Но на Западе это ощущение очень сильное. Наступает другой мир.
– Это вы о мусульманской угрозе?
– Я не вижу это как угрозу. С антропологической точки зрения я вижу это как перемену. Но конечно, есть чувство, что наступают другие силы, религиозные, этнические. Есть один поразительный пример, который чувствуется, не так уж остро, а должен чувствоваться остро. Еще двадцать лет назад казалось, что ислам существует на задворках мира и на задворках нашего сознания. Он ассоциировался не с культурой, а с третьим миром, с дикостью, с архаикой. И вот мы видим, как за двадцать лет стала перетряхиваться колода карт. И вдруг выяснилось, что это не просто сила или угроза, как мы привыкли думать. А что это огромный мир, существующий параллельно с нами, и его проникновение происходит на культурном уровне, а не на этническом или политическом. Это уже не переезд бедных эмигрантов и их жизнь в гетто.
– А вот знаю, что Роже Гароди, французский писатель, осознанно принял мусульманство еще в 80-е…
– Это было целое движение – Малькольм Экс, “Черные пантеры”… Всех этих людей вообще интересовал ислам.
– Чем он казался им лучше христианства?
– Мне кажется, что он стал для них способом стать другими, отделить себя от мейнстрима, выбрать для себя другую культурно-историческую основу. Выбрать ислам – встать на принципиально другую позицию по отношению к обществу. Это была целая большая тема. В 70-е, 80-е. Вот, теперь мы видим ее неожиданные и непредсказуемы последствия.
– Принятие Майком Тайсоном ислама из той же оперы…
– Тайсон… Это ровно те люди, о которых я говорю. Для которых ислам был не только религиозным, но и социокультурным выбором. Попытка сказать: “Мы не те, кем вы привыкли нас считать”. Мы думали, что различие ислама и христианства – вопрос религии, а это стало вопросом культуры. Но для нас это все равно вопрос религии. Вот в чем весь интерес.
– Поясните – это как?
– Там, где идет речь об образе жизни, невозможно разделять религию и культуру. Это история про одно и то же. Иногда про то, что теперь появились люди, которые хотят быть другими и почему-то выражают это именно так. Потом надо помнить, что ислам сейчас ассоциируется с динамикой, христианство – со стагнацией. Ислам – это молодость, требовательность, развитие, агрессия, которая и является признаком и молодости, и развития. Это та вещь, которую мы тоже не ожидали. Мы не ожидали, что ислам займет позицию не архаической и отсталой культуры, а, наоборот, динамично развивающейся.
– В России велись и ведутся жаркие споры о том, надо ли преподавать основы национальной религии в школе. По-вашему – надо?
– Вера, это огромное счастье. Быть верующим, это может быть лучшее, что может случиться с человеком. Именно верующим. Для меня вера, религия и церковь – это три принципиально разные вещи. Если представить себе некий идеальный мир и спросить себя, что бы мы хотели, чтобы наши дети знали о вере, я бы ответила, что в идеальном мире у наших детей должен быть какой-то инструментарий, который помог бы им понять, являются ли они верующими людьми, и если да, то как их веру строить.
– Но мы не живем в идеальном мире.
– Да, мы не живем в идеальном мире. Для того чтобы воспитывать ребенка в той или иной вере, причин слишком много: вера родителей, если она есть, и вера родителей, если ее нет. Тот факт, что вера ассоциируется с национальной культурой, это само по себе трагическая, но данность. Мы ничего не можем с этим сделать. Тот факт, что вера неразрывно связана с нашим понятием об образе жизни. То, что вера для нас не вопрос о том, что происходит в нашей душе, а то, как мы ведем себя каждый божий день. В конце концов, что будут говорить соседи, если ваш ребенок ходит в баптистскую, а не в православную церковь. Или наоборот. Я знаю многие страны, где основы религии, связанные с местной идентичностью, преподаются и тоже вызывают массу нареканий. Я, собственно, получала аттестат зрелости в Израиле, где в светских школах преподаются основы иудаизма.
– Это плохо?
– Это вызывает множество нареканий. Но в светских школах это предмет по степени обязательности и ответственности приравнивается к рисованию. Он никак не влияет на поступление в высшие учебные заведения. Хорошо ли это – непонятно. В каком-то смысле мне кажется, что хорошо. Потому что без знания основ религии невозможно знать основы культуры. Вот мы, советские дети, читавшие в школе классиков литературы XVIII, XIX веков, ни хрена не понимали, что там написано…
– Что же мы такое не поняли?
– “Анну Каренину”. Или “Евгения Онегина”. Для меня была очень странной история пушкинской Татьяны. Там ведь дело не только в том, что это деревенская девушка. Дело в том, что это русское ортодоксальное православие, в то время когда в Петербурге православие становилось придворным и светским. И это был один из крупнейших конфликтов в России вообще…
– То есть, по-вашему, дворяне в провинции были ортодоксами…
– Они были людьми, которые сохранили остатки моральных ценностей, связанных с православием XVII века, начала и конца XVIII. Тогда как Онегин…
Это вообще история про другое, не про двух друзей, которые поссорились из-за девушки. Нам это не было понятно, а это ужасно обидно. Реально ужасно обидно… Пушкин сам был человеком, разрывавшимся между своей странной светскостью и болезненной, наивной верой. И вере этой была грош цена, потому что вся она была искусственная, и язычество играло там роль чуть ли не большую, чем православие. Это надо было понимать. Точно так же как надо было понимать, как была устроена история “Капитанской дочки!” и в чем был смысл защиты крепости.
– А в чем там смысл – Пугачев наступает, солдаты обороняются?
– Смысл не в защите границ, а в том, что это были басурмане. Я в очередной раз перечитала “Капитанскую дочку”, наверное, год назад, и это стало так видно… Или – вы знаете, что для меня стало шоком? То, что я поняла, что мы ничего не знаем про книжку “Три мушкетера”. Даже те, кто знают ее наизусть.
– Ну, они там пили, убивали себе подобных и обижали бедных французских буржуа…
– Бог с ними, с буржуа. Это история про нуворишей. Про людей, которые получали мелкие дворянские титулы. В чем суть истории про Атоса? В том, что он среди них единственный действительно благородный человек. В чем суть истории про Д’Артаньяна? В том, что он единственный среди них человек, чьи родители считали себя благородными людьми. И для которых это важно. Это искусственно выращенное дворянство. Двое других – это вообще мусор. Но дело не только в этом. Почему король воюет с кардиналом? Потому что это история католиков и протестантов. Но мы-то это не понимали! Мы даже не понимали, в чем между ними принципиальная разница. Когда они говорят о том, ходит ли Д’Артаньян к мессе. В чем разница? Мне ужасно жалко, что мы этого не знали.
– И вы хотите все это рассказывать детям?
– В этом и заключается вопрос. Что нам рассказать ребенку вначале, что ему дать в качестве инструментария. Нет ответа. Что мы должны ему рассказать, что мы не должны ему рассказывать. В религии ведь есть очень много вещей, о которых ребенку не надо рассказывать, иначе он примет это как постулат вместо того, чтобы прийти к ним самостоятельно. Если бы меня поставили перед фактом, что что-то религиозное должно преподаваться в школах и надо придумать что, то я бы сказал, что это должны быть не основы православия, а курс, состоящий из двух частей. Один должен называться “Основы религии”, который объяснял бы, как вообще устроены отношения человечества и этой темы. И к чему это ведет. Второй назывался бы “Основы религии в русской культуре”. Это уже другая история, которая объясняла бы, почему в этой стране важно понимать ее христианские корни. И ее языческие корни, иначе это все впустую. И какое огромное влияние на нее имел ислам. Но делать это я бы предлагала ровно в таком порядке. И то я бы не представляла, где брать учителей, которые способны разговаривать на такие деликатные темы.
– Это как рассказы про секс.
– Когда мы говорим о том, что ребенок повзрослел преждевременно, это значит, что он преждевременно узнал ответы на эти вопросы. Под этими тайнами подразумеваются деньги, как наименее тайные, затем смерть, затем секс. Тайну денег ребенку открывают легче всего и охотнее всего. Тайну смерти от ребенка обычно оберегают сколько могут. Тайну секса оберегают до последнего. И – удивительная история – споры о введении в школе религиозных предметов напоминают споры о введении в школе основ сексуального воспитания. И это не случайно. Потому что это два предмета, которые полностью интимны. Поэтому это вызывает такие споры – мы не представляем себе, как в общественном пространстве говорить об интимных вещах.
Елена Некрасова