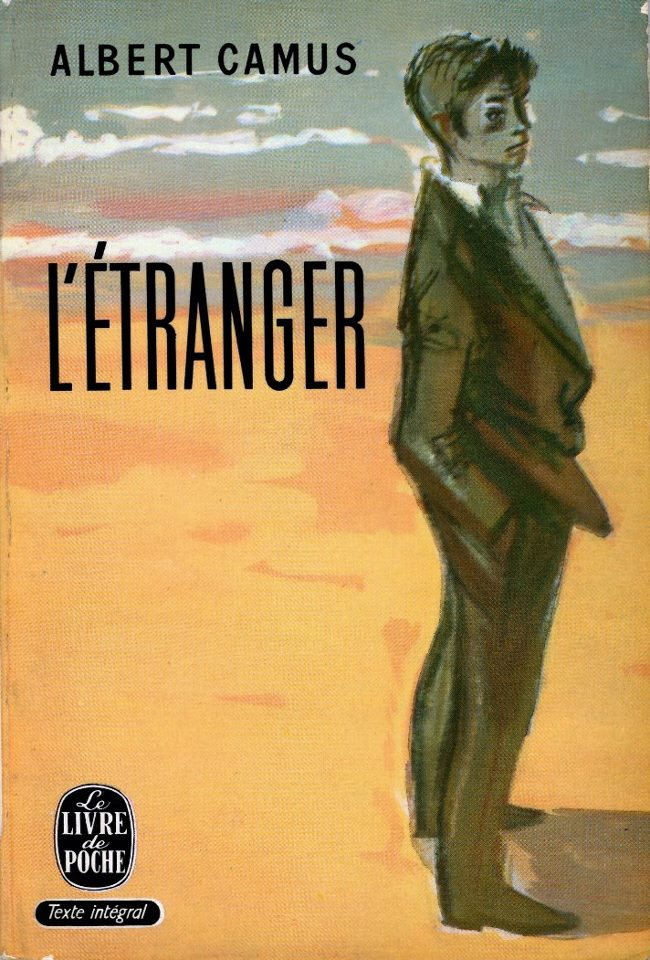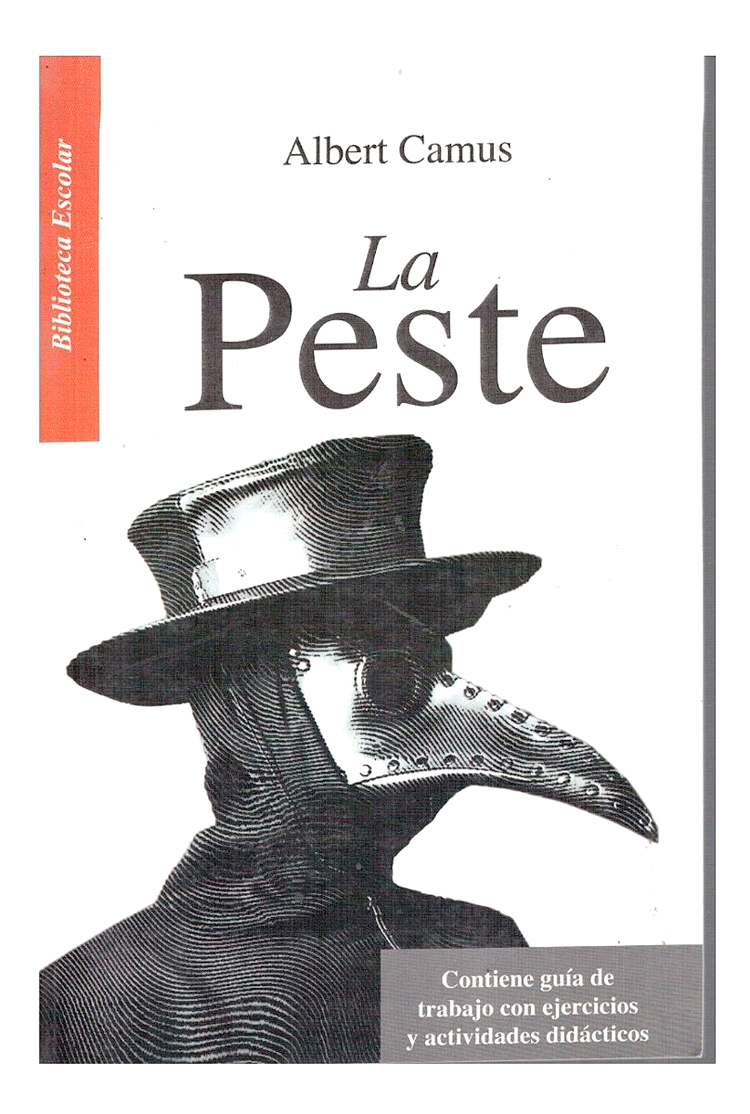7 ноября – день рождения нобелевского лауреата Альбера Камю
Камю я впервые прочел, когда еще считал главным делом своей жизни науку и не был испорчен глубокомысленными рассуждениями об абсурде и бунте, считая абсурдом лишь человеческие, но отнюдь не природные нелепости, а бунтом исключительно внезапные неорганизованные восстания. Однако слово «экзистенциализм» в ту пору было не менее модным, чем слово «кибернетика», и я еще не догадывался, что им обоим предстоит примерно одинаковое будущее: ты старомоден – вот расплата за то, что в моде был когда-то.
Без развеявшегося сакрального ореола выяснилось, что и тот, и другая не столько открывают какие-то новые идеи и явления, сколько дают новые названия давно известным.
Однако лично мне эта мода принесла пользу – я разыскал том Камю в книжном клубе при «Водоканале», где под прикрытием книгообмена процветала спекуляция. За Камю я заплатил десять рублей, то есть пять-семь номиналов, и не пожалел: открыв «Постороннего», я сразу ощутил дыхание мощной прозы: «Сегодня умерла мама. Или, может быть, вчера, не знаю». Дальнейшее излагается с тем аскетизмом, с каким и должно выражаться целомудренное горе.
Неприятный разговор с патроном о двухдневном отпуске, банальное сочувствие приятеля («Мать-то у человека одна»), поиск черного галстука и нарукавной повязки, погоня за автобусом, тряска, бензиновая вонь, – все очень узнаваемо: трагедии всегда приходят со шлейфом будничной дребедени.
- А.Камю. “Посторонний”. 1940
Обыденная беседа главного героя с директором дома призрения, попытка оправдаться, что он не мог бы содержать мать дома, директорское утешение, что здесь ее окружали люди ее возраста, с которыми ее связывали общие интересы…
Правда, в доме призрения она первые дни часто плакала. И тут первый звонок: плакала она, де, просто с непривычки, а через несколько месяцев она стала бы плакать, если бы ее оттуда взяли. «Отчасти из-за этого в последний год я там почти не бывал. И еще потому, что надо было тратить воскресный день, уж не говорю – тащиться до остановки, брать билет да два часа трястись в автобусе».
Да, причины более чем серьезные, лучше пускай она поплачет, ей ничего не значит.
Однако герой настолько симпатичен своей сдержанностью и откровенностью, что не хочется обвинять его в черствости.
С той же невозмутимой откровенностью он отказывается в последний раз увидеть свою мать в гробу, к некоторому удивлению и смущению привратника. Его, привратника, обыденная болтовня, предложение чашки кофе с молоком. «Я согласился, потому что очень люблю кофе с молоком», – вкус к кофе не пропал даже у гроба матери.
Между тем другие обитатели богадельни, беззубые, с трясущимися головами, все-таки пришли на ночное бдение у гроба покинувшей их подруги.
Утром герой выпил еще одну чашку кофе с молоком, «было очень вкусно».
Чрезвычайно сильно изображена «сверкающая и захлебывающаяся солнцем» равнина, через которую по расплавленному гудрону влачится похоронная процессия, но самое впечатляющее – безнадежно отстающий еле живой друг матери Перез. В конце концов и он добредает до кладбища, где наконец теряет сознание, не то от усталости, не то от горя.
А главный герой, Мерсо, держится молодцом. На следующий же день он поехал купаться на море, в воде встретил Мари, бывшую машинистку из его конторы, которую он в свое время «хотел», потом пошел вместе с Мари на кинокомедию с Фернанделем и в темноте гладил ее грудь…
Уже из последних сил хочется его оправдать, чтобы не впасть в ханжество: матери, де, уже не поможешь, а в горе хочется забыться…
Но уж больно хорошо ему это удается.
А затем его сосед-сутенер, прикидывающийся кладовщиком, просит Мерсо написать для него письмо к оскорбившей его любовнице, чтобы заставить ее раскаяться, а когда она ляжет с ним, он плюнет ей в лицо и выставит за дверь.
«Я сказал, что я не против». Терпимость поистине изумительная. В советской литературе такой герой был возможен лишь в качестве отпетого негодяя.
А потом после некоторых разборок с арабами на берегу моря, в которых Мерсо занимает миролюбивую позицию, он со случайно оказавшимся у него револьвером в кармане снова идет по берегу под одурманивающим солнцем и снова натыкается на тех же арабов, и один из них показывает ему нож. Мерсо имел полную возможность отступить, но в одурении от солнца и жары он выстрелил в араба. А затем и еще четыре раза.
- Марчелло Мастроянни в роли Артура Мерсо в фильме 1967 года
Разумеется, этот сюжет всем знаком, но лучше еще раз по нему пробежаться, прежде чем приступить к идейной сердцевине этой действительно превосходной вещи.
Поскольку для вынесения приговора необходимо уяснить личность подсудимого, прокурор старается представить его безжалостным садистом, хотя он всего-навсего, выражаясь бытовым языком, пофигист. Он не выражает раскаяния не потому, что он чудовище, а потому, что вообще не умеет сожалеть о прошлом, которое изменить все равно нельзя. Убийство он совершил не из злобы, а в состоянии одурения от перегрева и слепящего солнца, но, когда он говорит, что все произошло из-за солнца, людям это представляется глупой отмазкой, почти бравадой. А врать, рвать на себе волосы от раскаяния он не желает. И получается, что казнят Мерсо из-за его искренности.
По крайней мере, такой поворот делает сам Камю в предисловии к американскому изданию «Постороннего»: герой моего романа осужден за то, что не притворяется. Но позвольте, он все-таки осужден за убийство, а его реальная или мнимая черствость лишь послужила довеском. Или притворяться нельзя, а лущить старушек – пардон, арабов – по чему попало можно?
Все-таки всадить в уже подстреленного человека еще четыре пули как-то тоже не того, но, видимо, в сравнении с проблемой искренности-неискренности это дело десятое.
«Вот почему, – пишет Камю, – не слишком ошибется тот, кто увидит в «Постороннем» историю человека, который, отнюдь не будучи склонен к героизму, принимает смерть за правду».
Не за убийство, это мелочь – за правду.
Камю заходит и еще дальше: «Я пытался изобразить в лице моего героя единственного Христа, которого мы заслуживаем».
Вот как из первоклассного, но не гениального прозаика выйти в культовые – нужно провозгласить нечто настолько высокопарное и абсурдное, чтобы почитатели замерли в страхе и трепете, дабы не обнаружить свое позорное здравомыслие. Ведь одно дело написать отличную повесть или маленький роман о том, как казнили аутиста, приняв его эмоциональную отгороженность за свирепость, другое – приписать ему целое нигилистическое мировоззрение, которое он выкрикивает в разговоре со священником: «Все – все равно, все не имеет значения».
В этом тоже нет ничего нового: будь что будет – все равно, все – суета и томление духа. Каждый это слышал и читал не раз и не двести. Но каждый знает: захватит новая страсть, новая любовь, новая греза – и весь этот нигилизм развеивается, как дым от коптящего костра под порывом свежего ветра.
Не знаю, что находят в Камю нынешние молодые люди, но я бы рискнул им дать такой совет: читайте Камю. Ему, как, например, в знаменитой «Чуме», сильно мешает рассудочность, неотступное стремление с неукоснительной логичностью развивать не Бог весть какую глубокую идею, стремление, оттесняющее и приглушающее живые образы и ведущее к интонационной монотонности. Конечно, это можно назвать, и, скорее всего, справедливо, сознательным приемом, но мне в художественной литературе не нравятся приемы, переключающие переживание на изучение и комментирование.
- А.Камю. “Чума”. 1947
Тем не менее, продолжил бы я свое обращение, Камю первоклассный, хотя и не гениальный прозаик, только не позволяйте морочить себе голову высокопарными абсурдизмами. Жизнь имеет тот смысл, который мы ей придаем, смыслом жизни является любая страсть, заставляющая забыть о ее бессмысленности. Будут захватывающие увлечения – будет и смысл, поскольку это одно и то же.
И не слушайте тех, кто притворяется лишенным или на самом деле лишен таких увлечений. Не слушайте рассуждений кастратов или пижонов о бессмысленности любви.
Александр Мелихов