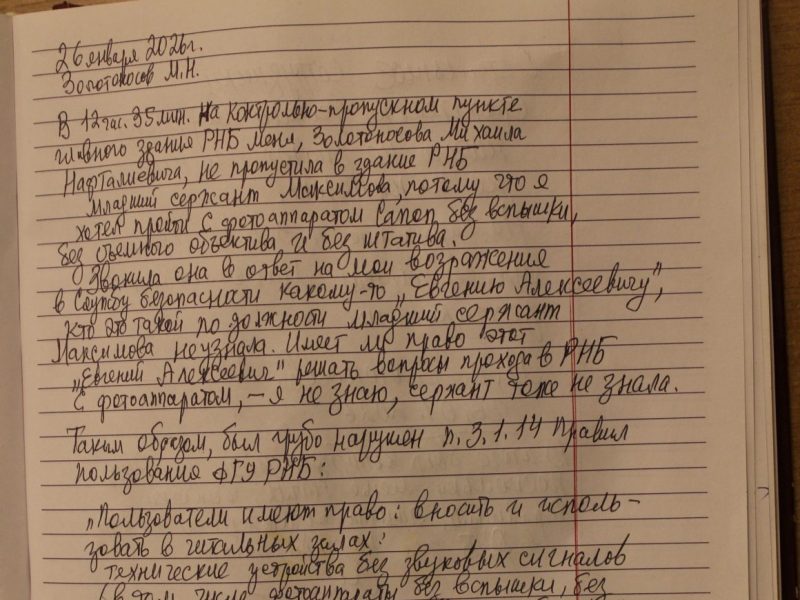В США – второе издание движения Occupy Wall Street, вторая в XXI веке попытка анархизма сокрушить истеблишмент. Впрочем, это новое издание революции, в прошлый раз провалившейся с «бесшумным треском», никак нельзя назвать дополненным и исправленным.
Дело в том, что как тогда, так и сейчас анархо-радикалам не хватаем главного – новой адженды.
В прошлый раз анархизм выступал в архаичном обличье давно исторически отгремевшей борьбы против капитализма. В этот раз выступает под эгидой такой же давно прошедшей борьбы с расизмом.
Да, капитализм и мультикультурное (мультирасовое) общество – системы, далёкие от идеалов социальной гармонии. Они полны социальных контрастов, в том числе тех, что корнями уходят в прошлое.
Но ведь ясно, что решать эти проблемы простой отсылкой к конфликтной и травматичной памяти, пытаясь разбередить старые раны и полить их «живой водой» старых баррикадных боёв – бессмысленно и даже вредно. Тем более нелепо пытаться победить меньшее зло посредством зла ещё большего. «Лечить» капитализм коммунизмом – значит просто умножать социальные проблемы и беды. «Лечить» межрасовые противоречия межрасовой агрессией – аналогично.
И – самое главное: подмена новой позитивной повестки – заведомо провальной охло-тоталитарной утопией приводит к тому, что неосмысленным и нереализованным оказывается то единственное будущное и здоровое, что есть во всех этих движениях, но что остаётся как бы на заднем плане – локализм, или «регионалистский анархизм».
Как активисты Оккупая, так и нынешние анархисты Сиэтла и других американских городов, пытающиеся создать пространства локального самоуправления, повторяют одну и ту же фигуру молодёжного идиотизма: подменяют регионализм очередным «праздником непослушания» – с развлечениями вместо работы и потреблением вместо производства. В итоге всё это, как в 2011 году, так и ныне, обречено закончится пшиком.
…Иногда мне хочется показать всем этим молодым штурманам бури без руля и ветрил – образец того, как на самом деле должна выглядеть свободная региональная коммуна: остров Мигинго на озере Виктория. Это крохотное полиэтничное негритянское самопровозглашённое государство живёт в условиях демократии и самоуправления, административно не подчиняясь ни одной из соседних стран – Уганде и Кении, от которых островитяне просто откупаются высокими налогами. Правда, счастье острова всецело зависит от того, насколько успешно ловится знаменитый нильский окунь, запасы которого, увы, иссякают. Но всё же остров Мигинго – остров честных тружеников, а не укуренных рэперов, психоделически мечтающих о дефинансировании полиции и «эскпроприации экспроприаторов»…
Разумеется, виноваты в политической пустоте и бестолковости современных американских молодых бунтарей не они сами. Им и не положено быть философами и идеологами. Им положено чувствовать накопившуюся в обществе фальшь и несправедливость – и протестовать. Виноваты «отцы», которые не дали созревшим для социального бунта молодым поколениями ничего, кроме многократно лицованного марксизма-прогрессизма и ресентиментных постмодернистских кривляний. Никакой позитивной идеи, направленной не только на деконструкцию старого, но и на созидание нового…
И всё же происходящее сегодня в США «второе издание Оккупая», как мне представляется, выглядит чуть более серьёзным и могущим иметь серьёзные регионалистские последствия. Тот факт, что протестующие начали пытаться создать не просто «палаточные городки», но «независимые микрогосударства», что они принялись крушить идейные скрепы США – памятники Колумбу и Вашингтону – всё это, полагаю, говорит о том, что, во-первых, в таких извращённых формах наружу пытается пробиться всё тот же локализм, и что, во-вторых, Америку в ближайшем будущем ждёт политическая контрволна, призванная дать отпор этим радикалистским нелепостям и извращениям. И в рамках этого грядущего гражданского столкновения разные города и разные штаты, как можно предположить, обнаружат разное гражданско-политическое лицо.
А это значит, что США де-факто вступят в период регионализации. Возможно, это станет запоздалым ответом на тот исторически травматичный факт, что изначально конфедеративный Союз, которым были Соединенные Штаты в первые годы существования, затем сменился жёсткой федерацией, в рамках которой, как поётся в известной песне – «They Drove Old Dixie Down». То бишь Север – де-факто поставил Юга на колени…
В 2012 году, по горячим следам Occupy Movement, я сделал доклад перед участниками семинара, организованного фондом «Либеральная миссия», и в следующим году издал на основе этого доклада книгу – «Глобальный сепаратизм – в главный сюжет XXI века» (полностью – тут).

Надеюсь, что некоторые страницы этого текста могут быть интересны именно сегодня, в условиях происходящего Оккупай-ремейка.

1) «МОЛОДЕЖНЫЕ ЦИКЛЫ» НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
На первый взгляд, между «арабской весной», Occupy Movement, российским движением «За честные выборы», реваншем левых на улицах Германии и на электоральных участках Франции, сепаратистским оживлением в Шотландии, Каталонии и некоторых штатах США, а также другими разбросанными по миру акциями протеста последнего времени идейно общего не так уж и много. И тем не менее возникает ощущение, что в мире «что-то началось». Но что именно? И чем это закончится?
Для того чтобы ответить на оба эти вопроса, прежде всего следует понять, в чем заключается универсальная причина этого всемирного и почти синхронного пробуждения революционной энергии? Разумеется, у каждой революции, отделяющей одну эпоху от другой, — свои уникальные причины. Однако есть во всех революциях и что-то общее.
А именно то, что еще в XVIII веке до Р. Х. ярко описал древнеегипетский публицист Ипусер в рассказе о событиях Смуты, погубившей Среднее царство:
«Приставленные к вратам говорят: “Пойдем и будем грабить”. Изготовители сладостей, прачечники отказываются исполнять свою работу. Эмалировщики, ловцы птиц строятся в боевые ряды. Человек видит в сыне своего врага… Жители пустыни повсюду стали египтянами… Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город говорит: “Да будем бить мы сильных [имущих] среди нас”. Воистину: люди стали подобны птицам, ищущим падаль…»
Ключевой элемент в этом апокалиптическом перечне – не поход бедноты на богачей, не наводнение древней культурной страны дикими варварами и даже не предательство полиции, позорно присоединяющейся к бандам эмалировщиков и птицеловов. Все это, как нетрудно понять, лишь следствия первопричины — великого социального разлома, рожденного конфликтом поколений. «Человек видит в сыне врага своего» — вот что в одночасье рушит социальнополитические системы, еще недавно казавшиеся абсолютно незыблемыми. «Перемен требуют наши сердца!» (популярный слоган времен Перестройки — строка из песни петербургского рокера Виктора Цоя) — как только этот звонкий клич вдруг вырывается из уст всей молодежи разом, атмосфера в обществе изменяется быстро, радикально и необратимо. И происходят перемены. Не всегда жуткие и кровавые, но всегда неодолимые и коренные.
Временной цикл этих великих потрясений в новейшее время, то есть начиная с 1918 года, когда закончилась Первая мировая война, довольно четкий: 21–23 года. Спустя именно этот срок (в 1939–1941 годах) разгорелась Вторая мировая война.
Через 21–23 года после ее окончания в 1945-м настал черед «молодежной революции» с ее кульминацией — 1968 годом. Сознание людей во всем мире в очередной раз радикально изменилось.
Еще через точно такой же отрезок времени (в 1989–1991 годах) достигла апогея Перестройка, пала Берлинская стена, а затем рухнули СССР и старый биполярный мир.
И если эта хронологическая закономерность действительно работает, то следующий революционный виток истории начался в 2012 году, а на 2014 год должен прийтись его пик…
Никакой астрологии и «пифагорейской эзотерики» в этих расчетах, конечно же, нет.
О цикличности истории задумывались еще античные греки…
<…>
Но, пожалуй, из классиков ближе всех к описанию того типа цикличности, о котором здесь идет речь, подошел Сёрен Кьеркегор. В работе «Век революции и современный век. Литературное ревю» он пишет о том, что героический «Век революции» неизбежно сменяется рефлексивно-бездейственным «Веком нивелировки».
XX столетие привнесло в эту отмеченную философами и историками циклическую закономерность лишь два новых момента: планетарную универсальность и жесткую периодичность. Этому, конечно же, есть вполне рациональное объяснение.
Все дело в том, что идея прогресса, ставшая в XX веке всеобщей «религией масс», развивается по законам, напоминающим течение болезни, известной в психиатрии как биполярное психическое расстройство, в старой транскрипции — маниакально-депрессивный психоз, или МДП. Для МДП, как известно, характерны острые и относительно непродолжительные эпизоды эйфорического подъема, избыточной веры в собственные силы, высокой энергетической активности, после которых наступают гораздо более длительные полосы душевного упадка, разочарования и уныния с пассивностью, безынициативностью и бездеятельностью. Вспышки «маниакального возбуждения» у общества могут быть самыми разными — реформы, война, революция (политическая, социальная, сексуальная). Но всех их объединяет стихийная и легкая вера в реальность глобального прорыва в «окончательно» справедливый миропорядок. У периодов уныния и стагнации также есть общие черты.
В XX веке общественность — в тех странах, где у нее сохранялось право голоса, — всякий раз предъявляла «депрессивным» эпохам примерно одни и те же претензии. Их суть сводилась к обвинению Системы в недостаточном внимании к «маленькому человеку», в пренебрежении к его интересам и его голосу, в «тоталитарном подавлении» личности и одновременном ее отчуждении от социума.
Тотальная ложь и тотальное насилие (прямое либо косвенное — через деньги) — вот что, по мнению критиков межреволюционных эпох XX столетия, лишает человека духовной свободы, превращая его в бессмысленную и фальшивую материально детерминированную социальную функцию. Выхваченные наугад фрагменты из нескольких трактатов, написанных в «депрессивные» или «гипоманиакальные» (предреволюционные) эпохи, как нетрудно заметить, на удивление схожи по доминирующему в них невротично-гуманистическому настрою и потому легко «перетекают» друг в друга.
«Шквал повального и беспросветного фиглярства катится по европейской Земле. Любая позиция утверждается из позерства и внутренне лжива… Массовый человек боится встать на твердый, скальный грунт предназначения; куда свойственнее ему прозябать, существовать нереально, повисая в воздухе. И никогда еще не носилось по ветру столько жизней, невесомых и беспочвенных — выдернутых из своей судьбы — и так легко увлекаемых любым, самым жалким течением… Масса говорит: “Государство — это я” — и жестоко ошибается… Кончится это плачевно…» (Хосе Ортега-и-Гассет, 1930).
«Спектакль подчиняет себе живых людей в той же мере, в какой их уже целиком подчинила себе экономика. Спектакль есть не что иное, как экономика, развивающаяся ради себя самой»; «В то же время всякая индивидуальная реальность начинает регламентироваться общественной, т.е. становится напрямую зависящей от общественной власти. Индивидуальная реальность отныне легко фабрикуется и управляется общественной властью…»; «Если мир перевернуть с ног на голову, истина в нем станет ложью…» (Ги Дебор, 1967).
«Сцены больше нет, нет даже той минимальной иллюзии, благодаря которой события могут приобретать признаки реальности, — нет больше ни сцены, ни духовной или политической солидарности: что нам до Чили, республики Биафра, беженцев, до терактов в Болонье или польского вопроса? Все, что происходит, аннигилируется на телевизионном экране. Мы живем в эпоху событий, которые не имеют последствий (и теорий, которые не имеют выводов). Нет больше надежды для смысла. И, без сомнения, это действительно так: смысл смертен…» (Жан Бодрийяр, 1981).
«…Притворство состоит не в том, что ложь выдается за истину, а в том, что истина выдается за ложь — то есть обман состоит в симуляции обмана…» (Славой Жижек, 1989).
Современные либеральные гедоники-атеисты «посвящают свою жизнь погоне за удовольствиями», «они попадают в густую сеть самоограничений (“политкорректных” норм)», «они принимают не менее сложный режим правил “заботы о себе” (фитнес, здоровая пища, духовная релаксация и так далее). В наше время ничто настолько не зарегулировано, ничто настолько не подавляет человека, как обычный гедонизм…» (Он же, 2012).
Период депрессивного «концептуального брюзжания» всякий раз сменяется короткой вспышкой революционной «мании». И происходит это каждые 21–23 года — не раньше и не позже.
Почему? Ответ очевиден: потому что за это время достигает своего совершеннолетия очередное «универсальное поколение», выросшее в эпоху серой стабильности с ее извечными психологическими обременениями — «материальным рабством», «духовной пустотой», «политическим лицемерием», «информационным трэшем», etc.
Дети эпохи застоя в настроенческом плане резко отличаются от своих отцов. Отцы надломлены драматичным опытом радикальных перемен, которые произошли в пору их собственной молодости, но так и не привели к построению «справедливого мира».
У выросшей в эпоху стабильности молодежи этих негативных воспоминаний и связанных с ним фобий нет. Дети застоя не только не боятся радикальных изменений, но страстно их жаждут, поскольку к этому их невольно подталкивают сами отцы — своим фальшивым прагматизмом и натужным оптимизмом, скрывающим внутренний разлад и глубокое недовольство существующей реальностью.
И в итоге, достигнув фазы совершеннолетия, поколение стагнации вдруг воспламеняется. И довольно быстро зажигает общество в целом — тем более что за время постэйфорического застойного уныния во всех его стратах накапливается горючий запас раздражения.
«Мировые войны, революции — время от времени все это происходит. Когда момент оказывается подходящим, достаточно просто искры» — данное «циклическое» наблюдение сделал идеолог и инициатор акции Occupy Wall Street 70-летний Калле Ласн.
На протяжении 22 лет — как раз с того времени, когда над миром пронесся предыдущий wind of change, поднятый советской Перестройкой, — Калле Ласн издавал ситуационистский журнал Adbusters, радикально атакующий общество тотального консьюмеризма. И все это время на страницах журнала Ласн и его единомышленники энергично раздували огонь нового всемирного пожара, направляя его пламя против «общества тотального потребления». Однако звездный час «сокрушителей рекламы» (advertising-busters) пробил не раньше и не позже того срока, к которому подросло новое поколение скучающих социальных бунтарей, — осенью 2011 года.
Казалось бы, в предшествующие годы и десятилетия проблема «потребительского тоталитаризма» была неизменно остра и актуальна. Но история ждала «условленные» 21–23 года. И судя по всему, революционный подъем 2011–2012 годов оказался сюрпризом даже для самого Калле Ласна.
Впрочем, и это неудивительно. Особенность наступления революционной эпохи в том, что до последнего момента как будто ничто не предвещает грядущего катаклизма. Текущая реальность скорее напоминает многократно повторившуюся и смертельно надоевшую рутину, а не эксцессное преддверие большого идеологического скачка…
Помню, как в конце 2008 года, сразу после победы Барака Обамы на президентских выборах, я опубликовал текст, в котором, опираясь на описанные выше циклические закономерности, попытался спрогнозировать дальнейшее развитие событий: «Конец первого срока Обамы (а значит, и конец всех надежд, с ним связанных) по времени как раз совпадет с теми “двадцатью с небольшим годами“, которые требуются для вступления в жизнь очередного поколения молодых буревестников. А это значит, что примерно в 2012–2015 гг. мир ждет глобальное идейное потрясение и концептуальное обновление…». Этот прогноз, однако, не произвел тогда серьезного впечатления практически ни на кого из коллег, став просто еще одной из множества бездоказательных футурологических гипотез…
Разумеется, предложенная поколенческая схема — generation schema — требует массы оговорок и уточнений. Дело в том, что в реальности разные страны участвуют в общемировом циклическом процессе неравномерно. Есть лидеры (притом каждый раз разные) и есть ведомые. Иногда, как в велогонке, уже в ходе начавшихся перемен происходит смена лидера, а порой даже меняется исходный маршрут.
И все же факт остается неизменным: каждые 21–23 года в современном мире происходит нечто такое, после чего каравелла истории накреняется и делает очередной резкий идеологический галс.
Однако на протяжении последних десятилетий в недрах этой закономерности развивается тенденция, которая ставит все грядущие революционные циклы под большой вопрос.
Речь идет о давно отмеченном идеологическом тупике, в который уперлась общественная мысль, а вместе с ней и вся мировая политика — как истеблишмент, так и андеграунд.
Произошло это вскоре после того, как гуманистическая идеология «68-го года» восторжествовала в той степени, в какой ей было суждено это сделать, и наступило очередное время застоя. На этот раз унылая стабильность выступила в концептуальном обличье постмодернизма, в основу которого лег отказ от любых попыток создания и продвижения каких бы то ни было новых больших идей.
Начиная со второй половины 1970-х годов общественная мысль в странах Запада стала концентрироваться либо на прагматической легитимации status quo, либо на деконструкции всех прошлых идеологем и скептическом отрицании настоящего — без попытки выдвижения альтернативного проекта.
И неизвестно, как бы проявило себя поколение «пост-68» в странах золотого миллиарда, подойдя к революционному рубежу «89–91», если бы в Советском Союзе не началась горбачевская Перестройка…

2) СОВЕТСКИЙ РЕМЕЙК-68 И РОЖДЕНИЕ МИФА О КОНЦЕ ИСТОРИИ
«Шестьдесят восьмой год» изначально смог победить не везде. Железный занавес и общее похолодание, наступившие в странах Восточного блока после подавления «Пражской весны» 1968 года, не позволили рок-н-ролльному ветру конца 60-х властно ворваться в пространство, контролируемое коммунистическими режимами, чтобы радикально его переформатировать.
В итоге поколение «шестидесятников» в этих странах, не сумевшее реализовать свою Поколенческую повестку дня — Generation Agenda — мечту о «свободе, демократии и мире во всем мире», — просто передало эту идейную программу, как эстафетную палочку, своим детям.
Горбачевская Перестройка, «новое мышление» и конец холодной войны, по сути, оказались расширенным ремейком «68-го года», пришедшим с Востока. С одним лишь нюансом: протестное движение на этот раз почти не связывало себя с демосоциалистической (марксистской) экономической риторикой, которая полностью скомпрометировала себя в странах Восточного блока. Вместо этого демократический протест активно использовал идейный инструментарий, разработанный создателями неолиберальной экономической школы.
<…>
После того как Перестройка благополучно осуществила расширенное переиздание «68-го года», мир — также в расширенном формате — окунулся в уже освоенное Западом состояние постмодернистской рефлексии и идеологической стагнации. Гуманистический проект 1960-х исчерпал себя вторично и на этот раз окончательно. Отсутствие новых позитивных идей в этих условиях стало ощущаться с особой остротой.
Европа попыталась заполнить идеологический вакуум культом золотого тельца по кличке Евро. Однако это материальное божество оказалось столь циничным и прожорливым, что становится все меньше похоже на сакральный объект или волшебную палочку и все больше — на банальную, хотя и масштабную техническую трудность, с которой «надо, наконец, что-то делать».
США в поисках нового идеологического спарринг-партнера решили заменить мировой коммунизм глобальным исламизмом, борьба с которым очень скоро вернулась бумерангом в виде «арабской весны». Сегодня Вашингтон де-факто вместе с Аль-Каидой вынужден бороться с некогда лояльными Западу светскими авторитарными режимами Ближнего Востока. И тем не менее госсекретаря США Хиллари Клинтон, прибывшую в Каир, встретили отнюдь не радостные клики благодарной толпы, а летящие со всех сторон башмаки и гнилые овощи. Эту внезапно приключившуюся коллизию язык либерально-демократической риторики Белого дома, насколько можно заметить, пока что просто не в состоянии внятно описать.
Есть еще целый ряд проблемных констант, с которыми столкнулись страны благословенного Севера и которые принципиально «неописуемы» и неразрешимы в рамках либерально-государственной парадигмы конца истории.
Среди этих проблем — нескончаемый поток мигрантов, устремляющихся с Юга на Север; необходимость сокращать социальные гарантии в странах Севера, дабы не проиграть конкурентную битву экономическим державам Азии и Латинской Америки; огромное число горячих точек, являющихся мучительной головной болью для всего мира. Et cetera…
На фоне всего этого неготовность общественной мысли, прежде всего западной, к тому, чтобы предложить миру обновленную парадигму, в которой бы содержался ответ на основные вызовы начала XXI века, кажется все более странной. И даже катастрофа 9/11 не изменила этого пассивно-рефлексивного идейного вектора…
Однако то, что не сумели сделать кровожадные шахиды Аль-Каиды, смогло — притом с легкостью и абсолютно бескровно — совершить время. Подошел к концу очередной поколенческий цикл, и в самом сердце либерального мира — в США, в Нью-Йорке, на Манхэттене — неожиданно, мощно и радикально заявил о себе глобальный протест, идущий изнутри американского и — шире — всего западного общества. Конец истории кончился окончательно…

3) МОЛОДЫЕ ЛЮДИ СНОВА РАССЕРДИЛИСЬ
<…>
На первый взгляд, движение Occupy в финансово-экономическом плане вполне могло бы предложить нечто радикальное и неожиданное. Что-то вроде реформы Солона — сисахфии (стряхивание бремени). Как известно, при помощи этой меры греческий политик и мудрец в VI веке до Р. Х. избавил Афины от финансового краха. По его инициативе были отменены все ипотечные долги и сняты закладные камни со всех земельных участков… Эти «антилибертарианские» реформы легли в основу будущего процветания афинской демократии.
Однако Occupy пока что не предлагает ничего похожего на разрубание гордиева узла проблем, порожденных агрессивной экспансией корпораций в отношении среднего класса. Неудивительно — за окном давно не VI век до Р. Х. И даже радикально настроенный философ Славой Жижек — один из интеллектуалов, активно поддержавших Occupy, — признает, что слишком решительная атака на капитализм, о которой мечтают многие участники движения, была бы сегодня равносильна катастрофе: «…Проблема заключается в том, что без Уолл-стрит нет и Мэйн-стрит — то есть все эти банки и система кредитов необходимы для функционирования современной системы… Если бы рухнула Уолл-стрит, рухнуло бы вообще все. Мы должны мыслить более радикально!.. Думайте над тем, как изменить это!..»
Примечательно, что и Жижек в этом интервью, и NYCGA [высший орган движения Occupy в Нью-Йорке – The New York City General Assembly] в своей Декларации попросту отбрасывают прочь, как воланчик в бадминтоне, вопрос о позитивном содержании протеста.
Обращенный «куда-то в массы» призыв «думать и предлагать», похоже, становится для Occupy чем-то вроде обсессивного невротического рефрена. Такое впечатление, что участники движения в самом деле верят в то, что новая большая идея может родиться сама собой в ходе их спонтанных дискуссий на заседаниях NYCGA или в недрах одной из поставленных в парке палаток — в какой-то пока еще неведомой миру голове одного из десятков тысяч рядовых участников акции…
Несмотря на то что некоторым участникам движения кажется, что отсутствие позитивной программы является скорее достоинством Occupy, поскольку позволяет представителям самых разных идейных течений сохранять организационное единство, такое мнение все же приходится признать ошибочным.
Дело в том, что активный протест, лишенный позитивной программной основы, имеет тенденцию довольно быстро выдыхаться. К слову, это хорошо почувствовал Калле Ласн, который оценил выдворение «оккупантов» из Zucotti Park не как их поражение, но как благоприятную возможность взять небольшой тайм-аут…

4) АНАРХИЯ НУЖДАЕТСЯ В СВОЕМ ГОСУДАРСТВЕ
<…>
Если определить нынешнюю риторику Occupy одним словом, то ее правильнее всего будет обозначить как анархизм — в самом широком, не доктринерском смысле этого слова. То есть как идейный протест против всего того, что институционально ограничивает и подавляет личную свободу.
Большинство организаторов Occupy Wall Street, к слову, прямо называют себя анархистами. Калле Ласн, например, один из постоянных авторов журнала Design Anarchy. Его помощник Майкей Уайт говорит о себе как о «мистическом анархисте». Анархистами считают себя влиятельный активист Occupy — 50-летний преподаватель Лондонского университета Дэвид Гребер, а также юные лидеры движения — 26-летняя Джастин Танни из Филадельфии и 25-летняя кинорежиссер Мэриса Холмс.
Сама идея горизонтальной самоорганизации и прямой демократии, лежащая в основе NYCGA, предложена анархистами. Анархистским по духу является один из главных лозунгов движения Occupy не только в США, но во всем мире: «Глобальная демократия — сейчас!» — «Global Democracy Now!». Конечно, среди участников движения не только анархисты. Есть и те, кто идентифицирует себя как либералов, социалистов, либертарианцев, политически независимых или защитников окружающей среды. И все же радикальный протест против истеблишмента, стремление захватывать территории и обустраивать их на принципах прямой демократии — это классическая анархия. И в этом смысле все участники Occupy — анархисты де-факто.
Один из «оккупантов» — школьный учитель П., пожелавший остаться неназванным, в беседе с репортером The New Yorker определил суть анархизма как «искоренение любой несправедливой или незаконной системы. Это как минимум означает искоренение капитализма и государства».
Ждать, что из такой примитивной модели анархизма вырастет «новая большая идея», конечно же, нелепо. Хотя бы по той простой причине, что эта модель (как и прочие теоретические разработки Occupy) далеко не нова. Анархо-коммунизм и анархо-синдикализм как ультрареволюционные проекты, альтернативные государству и капиталу, давно пережили пик своей популярности и сегодня выглядят как очень старая и местами очень страшная сказка.
И в то же время в отличие, скажем, от марксизма или фашизма анархизм не является книгой, в которой человечеством прочитана и перевернута самая последняя страница. Причем именно сегодня — в эпоху глобализации, кризиса национальных государств и повсеместного пробуждения локальных политических процессов — эта непрочитанная страница анархистской теории оказывается как никогда актуальной.
Речь идет, если так можно выразиться, о государственном аспекте анархизма. Дело в том, что, выступая против государства, классики анархизма бросали вызов не власти как таковой, а лишь авторитаризму, с которым в ту далекую пору ассоциировалось любое государство. Целью анархистов было, таким образом, не безвластие, но создание модели власти, максимально близкой людям.
Во второй половине XIX — начале XX века об этом много размышлял и писал теоретик анархизма Петр Кропоткин. Бежав из самодержавной России, князь Кропоткин долгое время прожил в Швейцарии, где проникся конфедералистским духом родины легендарного «сепаратиста № 1» — Вильгельма Телля. В качестве оптимальной формы политического устройства Кропоткин предложил коммуну. Ее ближайший исторический аналог он видел в вольных городах средневековой Европы. Сегодня такую концепцию вряд ли вообще назвали бы анархистской. Скорее ее вписали бы, притом вполне справедливо, в графу «Регионализм».
<…>
[Свои взгляды Кропоткин подробно изложил в книге «Современная наука и анархия]:
«В одиннадцатом и двенадцатом столетиях по всей Европе вспыхивает с замечательным единодушием восстание городских общин», «этой революцией началась новая полоса жизни — полоса свободных городских общин»; «В течение одного столетия это движение… охватило Шотландию, Францию, Нидерланды, Скандинавию, Германию, Италию, Испанию, Польшу и Россию».
Эти города-коммуны, писал Кропоткин, замечательным образом контактировали друг с другом и совершенно не нуждались в административном подчинении кому бы то ни было:
«Часто в случае неуменья решить какой-нибудь запутанный спор, город обращался за решением к соседнему городу. Дух того времени — стремление обращаться скорее к третейскому суду, чем к власти, — беспрестанно проявлялся в таком обращении двух спорящих общин к третьей».
Но вот в XVI веке возникли абсолютистские государства, которые разрушили регионалистскую цивилизацию Средневековья, уничтожили федерацию вольных городов. Пришли, по терминологии Кропоткина, «новые варвары» — начальники. Светские и духовные. Юрист (знаток императорского Римского права) и священник — вот под чьим зловредным влиянием, по мнению Кропоткина, «старый федералистский дух свободного почина и свободного соглашения вымирал и уступал место духу дисциплины, духу правительственной и пирамидальной организации…»
Конечный вывод звучал так:
«Одно из двух. Или государство раздавит личность и местную жизнь; завладеет всеми областями человеческой деятельности, принесет с собой войны и внутреннюю борьбу из-за обладания властью, поверхностные революции, лишь сменяющие тиранов… Или государство должно быть разрушено, и в таком случае новая жизнь возникает в тысяче центров, на почве энергической, личной и групповой инициативы, на почве вольного соглашения. Выбирайте сами!»
Если заменить в этом фрагменте «государство» на «корпорации и коррумпированная власть» и представить на миг, что у Occupy Wall Street вдруг появилась своя политическая программа, данный отрывок из книги Петра Кропоткина «Современная наука и анархия» вполне мог бы стать ее эффектным финалом. Равно как и все предыдущие рассуждения Кропоткина могли бы служить ее историософской преамбулой.
Дело в том, что и Декларация Occupy Wall Street, и конкретные действия движения стремятся к тому же, к чему более 100 лет назад призывал мятежный князь Кропоткин: к созданию «тысячи центров на почве энергической личной и групповой инициативы, на почве вольного соглашения».
Однако между старым анархизмом Петра Кропоткина и новейшим анархизмом Occupy есть одно существенное различие. Кропоткин говорил о вольных городах, то есть, переводя на современный язык, о государствах регионального масштаба.
Occupy же ведет речь о захвате public space — общественных мест, представляющих собой лишь небольшие территориальные островки внутри городов. Причина этого различия понятна.
Старые анархисты всерьез размышляли о том, чтобы создать на месте государств что-то жизнеспособное и долгосрочное. Поэтому в их проектах речь шла о цельных самодостаточных территориях, имеющих собственную экономику. Иными словами, о регионах, а не о случайно оккупированных фрагментах городского ландшафта.
Новейшие же анархисты об экономике и устойчивом развитии своих коммун не рассуждают вовсе. Им это не нужно. Цель их игры в «прямую демократию» состоит не в том, чтобы создать альтернативную политическую модель, но в том, чтобы просто докричаться до действующего начальства — «сделать ваши голоса услышанными!» — «make your voices heard!».
А для этого вполне достаточно легких палаточных городков, временно расположенных в центре мегаполисов на небольших захваченных пространствах:
«Осуществляйте ваше право на мирные собрания; занимайте публичное пространство; создавайте процесс, позволяющий решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и генерируйте решения, доступные каждому. Всем сообществам, которые принимают участие и формируют группы в духе прямой демократии, мы предлагаем поддержку, документацию и все наши ресурсы, которые есть в нашем распоряжении. Присоединяйтесь к нам, чтобы ваш голос был услышан!..»
Одним словом, вопреки тому, что говорят участники Occupy, их «прямая демократия» в действительности совсем не демократия. Ибо у этой «демократии» нет ни постоянной территории, ни экономики — если, конечно, не считать экономикой успешное проедание пожертвованных средств. Да и может ли быть своя экономика у палаточного городка размером с городской парк? Анархизм NYCGA существует в формате ситуативной ролевой игры, ограниченной во времени и пространстве. Игра эта может происходить лишь на очень небольших территориях. И лишь до тех пор, пока либо полиция не разгромит очередной революционный кемпинг, либо не кончится endowment — ресурс, выделенный благотворителями.
Самостоятельным политическим проектом Occupy Wall Street, таким образом, изначально не является. Его организаторы могут еще много раз повторить заклинание о том, что «Америке нужен свой Тахрир», но никакого Тахрира ни на Манхэттене, ни в других городах золотого миллиарда в итоге не появится. Zucotti Park не смог стать Тахриром не только в прямом смысле (то есть не стал ареной кровавых столкновений, что, конечно же, хорошо), но даже метафорически. Zucotti Tahrir закончился тем, что довольно быстро сам себя идейно исчерпал. И когда его разогнали, сами лидеры Occupy вздохнули с облегчением, так как уже не знали в тот момент, о чем говорить и что делать дальше с этими десятками тысяч праздных и эмоционально взвинченных людей.
Для того чтобы Zucotti Park смог превратиться в победоносный Тахрир, с самого начала нужна была хотя бы простая и «наивная» — но ясная и четкая — позитивная политическая программа. «Арабская весна» потому стала плодоносить так бурно и обильно, что у нее такая программа изначально была — «демократический ислам». Неважно, до какой степени эта Agenda была реалистична и конструктивна, а до какой — деструктивна и утопична. Важно то, что, решившись выйти на площадь, арабы полагали, что знают, чем именно они хотят заменить надоевший им светский авторитаризм. Они мечтали о такой модели власти, которая сочетала бы жизнь по «справедливым законам шариата» с благами политического плюрализма и парламентарной демократии. И поэтому на площади Туниса и Каира выходили не 10–50 тыс., а сотни тысяч горожан. И они не уходили с площадей до тех пор, пока противостоявшая им власть не капитулировала…
Но почему у анархистов Occupy нет своего анархистского политического проекта?..
Первое, что сразу приходит на ум: анархистского проекта нет, потому что его и быть не может! Ибо анархизм — это, так сказать, глубоко позавчерашний день. Это такая же левая тоталитарная ерунда, как «Государство» Платона, «Утопия» Мора, «Город Солнца» Кампанеллы и «Коммунистический манифест» Маркса — Энгельса. Ведь сколько бы мы ни критиковали современные национальные государства, ничего лучше все равно придумать нельзя! Государство — это ultima ratio. Это такой же венец творения в области социального устройства, каким сам человек является среди природы. Одним словом, национальное государство — это «само совершенство», вроде Мэри Поппинс.
Однако это не так. Еще в конце прошлого столетия политики и политологи обратили внимание на тот факт, что в условиях наступающей глобализации институт национального государства вступает в полосу неодолимого системного кризиса и неизбежного грядущего декаданса…

5) РЕГИОНЫ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВ — ГЛАВНАЯ КОЛЛИЗИЯ XXI ВЕКА?
В начале 90-х годов XX века наступил этап великого международного переформатирования. Рухнула биполярная модель (USA vs USSR), резко ускорился процесс глобализации, качественно возросла интенсивность миграционных потоков. Национальные государства в новых условиях вдруг оказались сразу под двойным прессом — «сверху», со стороны надгосударственных структур и транснациональных корпораций, и «снизу», со стороны этно-территориальных сообществ, стремящихся к политической эмансипации. И сразу же стало ясно: главные международные акторы — национальные государства, царившие на протяжении всего XX столетия, — начинают превращаться в геополитический анахронизм. Обо всем этом на рубеже миллениума почти хором стали говорить наблюдатели во всем мире.
<…>
О «кризисе национальной идентичности», который развивается в странах Запада, в середине 2000-х, незадолго до своей кончины, говорил в интервью газете Le Figaro и патриарх мировой политологии Сэмюэль Хантингтон.
Этот кризис, переживший на протяжении последних 20 лет периоды подъема и спада, в последнее время опять обострился во многих странах.
С конца 2011 года вновь активизировались разговоры о создании на севере Италии независимого государства Падания, идею которого отстаивает Лига Севера.
В апреле 2012 года была предпринята попытка сбора подписей за отделение области Ломбардия и присоединения ее к Швейцарии. Пример североитальянского сепаратизма, к слову, ярко демонстрирует, что у сецессионизма могут быть не только этноконфессиональные (что, конечно, встречается чаще), но и чисто гражданские корни.
Не утихают дискуссии о возможном распаде Бельгии на Фландрию и Валлонию.
По-прежнему актуальны темы гипотетической сецессии Корсики, Страны Басков и Северной Ирландии.
Несколько лет назад каталонцы (вскоре после того, как такого же признания добились граждане канадской провинции Квебек) официального утвердили себя в качестве «нации». Резкое ухудшение бюджетной ситуации в Испании в конце 2012 года привело к тому, что руководство Каталонии объявило о намерении организовать референдум о независимости, несмотря на то что современное испанское законодательство такого права регионам не предоставляет. После этого сепаратистский курс Каталонии приобрел еще более жесткие и бескомпромиссные очертания.
На карте Европы в начале XXI века появились еще два «одноэтажных» государства регионального типа: Черногория и Косово.
На 2014 год Шотландской национальной партией, находящейся в этой стране у власти, намечено проведение референдума о государственной независимости…
Дыхание перманентной деволюции ощущается и за океаном. Правда, в США распространению регионализма препятствует, помимо всего прочего, мессианская доминанта, давно ставшая базовым элементом национальной американской ментальности… И тем не менее регионалистские тренды ощущаются и в США..
<…>
Итак, можно сделать как минимум два промежуточных вывода.
Во-первых, вопреки распространенным «государственническим» стереотипам регионализм (включая сепаратизм как крайнюю, или высшую, его форму) не только не препятствует развитию глобальных интеграционных процессов, но является их актором и производной одновременно.
Во-вторых, региональная политика — в силу своей горизонтальной природы — способна сделать процесс глобализации более интерактивным, поставив его под эффективный контроль со стороны граждан. Региональный дом гораздо ближе к земле, чем национально-государственный билдинг.
Чем более политически независим регион, тем крупнее политический масштаб каждого гражданина, тем слышнее его голос. И, следовательно, тем больше у современного общества шансов выйти из тупика прогрессирующей гражданской атомизации, в который оно стало загонять себя к началу второй декады XXI столетия.

6) НИТЬ АРИАДНЫ ДЛЯ СТРАН ТРЕТЬЕГО МИРА
Разговор о регионализме как нити Ариадны, способной вывести человечество в XXI столетии из мрачного национально-государственного лабиринта, становится еще более острым и актуальным, если перевести умственный взор со стран золотого миллиарда на менее благополучную часть человечества.
Здесь кризис национальной государственности по большей части выглядит не как мирная тяжба между столичными и региональными политическими элитами, но как бесконечная, беспросветная и безжалостная война на износ между центральными правительствами и разного рода «экстремистами», «сепаратистами» и «террористами».
Современная карта мира плотно усеяна кровоточащими язвами межэтнических и территориальных конфликтов, в основе которых всегда одно и то же — нежелание одних сообществ жить в пределах единой и неделимой «национальной государственности» вместе с другими — как правило, более многочисленными — сообществами. И таких квадратур круга, не разрешимых в рамках современной национально-государственной парадигмы, многие десятки, если не сотни.

<…>
На месте застыла не только Real Politik, но и политическая мысль. За время, которое прошло с того момента, как рухнул СССР и тема несправедливости и зыбкости существующих государственных границ стала активно обсуждаться, в мире так и не появилось ничего похожего на универсальный политический проект, целью которого стал бы легальный демонтаж национальных государств и переход к новой — региональной — политической самоорганизации территорий. Нить Ариадны повисла…

7) ЧТО МЕШАЕТ РОДИТЬСЯ НОВОЙ ИДЕЕ?
На первый взгляд, нерешительность мирового сообщества в вопросе о легализации сепаратизма и сецессии более чем объяснима. Если дать всем народам и территориям право на свободное отделение и независимость, где гарантия, что завтра не начнется война всех против всех? Представить, что несколько сотен (или тысяч?) сообществ одновременно вступят в ветхозаветную схватку «за землю и воду», можно только в самом страшном сне. Именно этот аргумент в первую очередь и приводят идеологические агенты истеблишмента, утверждая, что принцип территориальной целостности стоит выше права народов на самоопределение.
«Правительства полагают, что, если поставить под сомнение ту или иную конкретную границу, мир рискует поставить под сомнение все границы, а это может спровоцировать международный хаос», — поясняет Майкл Мандельбаум. И потому: «Чаяния тибетцев, мусульман Западного Китая и чеченцев вызвали сочувствие, но не официальную поддержку со стороны остальной части мира. Суверенные государства предпочитают уважать существующие границы как легитимные и постоянные — безотносительно к тому, насколько произвольно они проведены».
Международное сообщество и сегодня продолжает отрицать право народов и территорий на одностороннюю сецессию.

4 октября 2011 года на заседании ПАСЕ в Страсбурге была принята резолюция № 1832, согласно которой «право этнических меньшинств на самоопределение… не предусматривает автоматического права на отделение [и] в первую очередь должно быть реализовано методом защиты прав меньшинств…».
Таким образом, «случай Косово» не стал прецедентным, и это было запротоколировано, так сказать, де-юре. Официальная Европа дала ясно понять, что не намерена использовать косовский опыт для решения таких застарелых своих проблем, как признание Турецкой Республики Северного Кипра, предоставление права на референдум о независимости Стране Басков, урегулирование в Северной Ирландии, политическое самоопределение венгров Румынии и Словакии и т.д.
Перед нами, похоже, замкнутый круг.
С одной стороны, как дружно полагают аналитики, демонтаж ныне существующих национальных государств и появление на карте мира множества новых политически независимых сообществ — это лишь вопрос времени.
С другой стороны, эта перспектива выглядит опасной, и ни одна из политических сил — ни истеблишмент, ни даже внесистемная оппозиция — не берет на себя ответственность за то, чтобы, во-первых, осуществить легализацию сецессионистской стихии и, во-вторых, перевести регионал-сепаратистский дискурс из чисто политологической в политическую плоскость.
Таким образом, на мир в XXI веке надвигаются события, осуществлять эффективный менеджмент которых общественность пока что морально не готова. И даже не готова начать обсуждение этой «опасной темы», предпочитая просто от нее отмахиваться, как от противного насекомого.
Отмахнуться, однако, все равно не удастся. Это доказывают не только яркие примеры Косово, Ирака, Ливии, [Сирии,] а также других «гуманитарных исключений» из правила о национально-государственном суверенитете. Это подтверждает и та реальность, с которой сталкиваются даже самые успешные современные государства. Еще в 1997 году Хуан Энрикес в статье «Слишком много флагов?» отметил, что границы даже таких благополучных стран, как США и Канада, в реальности нестабильны, что особенно актуально в условиях развивающейся глобализации…
Иррациональный страх, который международное сообщество испытывает перед «хаосом» свободного самоопределения национально-территориальных меньшинств, впрочем, не так сложно преодолеть. Для этого надо просто подвергнуть его исторически рациональному, а не ситуативно-эмоциональному осмыслению.
Вспомним, какую панику последовательно вызывали у истеблишмента разных стран на протяжении XVIII–XX веков бурно развивавшиеся идеологии — либерализм, антиклерикализм, демократия, социализм, национализм, коммунизм…
А ведь перспективы всемирного «восстания масс», которое вызывали к жизни эти радикальные доктрины, в самом деле были пугающе туманны. И страх перед ними был отчасти оправдан — произошедшее под влиянием этих идеологий глобальное пробуждение человечества в самом деле породило целую серию общемировых катаклизмов. И тем не менее человечество — при всех очевидных издержках и вынужденных жертвах — не погрузилось в пучину хаоса и сумело не только успешно переварить все эти идеологии, но даже продвинуться при их помощи вперед по пути прогресса. Достичь этого удалось за счет перевода радикальных и революционных дискурсов в умеренную, договорно-правовую — либерально-демократическую — плоскость.
Но если в конце концов удалось либерализовать даже марксизм, поначалу делавший принципиальную ставку на радикальное социальное насилие, что мешает предложить столь же общественно приемлемый вариант сепаратизма, для которого вооруженное сопротивление является крайней и совершенно не обязательной формой?..
Что мешает продумать такую теоретическую модель, которая бы гарантировала ныне существующим территориальным меньшинствам, во-первых, реализацию их права на независимость, а во-вторых, сугубо мирный и правовой характер этой реализации, обеспечивающий соблюдение прав человека и учет интересов новых меньшинств, образующихся в результате сецессии?..
Ясно ведь, что хаосом и войной всех против всех сецессионизм грозит лишь в случае, если он агрессивен и экспансивен. Иными словами, если борьба за независимость «плавно перетекает» в этнические чистки и войну за присоединение чужих территорий. То есть за создание нового «великого национального государства» — по возможности «от моря до моря», — в котором усмирены все путающиеся под ногами меньшинства и подавлено всякое инакомыслие.
Но такая этнократическая геополитика не только не имеет ничего общего с фундаментальной региональной идеей, но и прямо ей противоречит, ибо первым делом растворяет регионы в очередном «национальном государстве»…
В отличие от традиционного национализма — государственнического или этнического — регионализм территориально не экспансивен.

Регион имеет четкие исторически сложившиеся очертания, «расширение» которых так же немыслимо, как расширение человека за пределы его собственного тела.
Поэтому разговор о создании перспективной идеологии регионализма возможен лишь при условии принципиального отграничения региональной идеи от любых великодержавных и этнократических вариаций «национально-освободительной» темы, неизбежно вступающих в противоречие с принципами свободы и демократии.
Таким образом, по сравнению с национальным, региональное государство — «региональный дом» — является следующим шагом на пути развития либеральной демократии. Подобно жилищному кооперативу, «государство-регион» оказывается политическим организмом, который легко корректируется «снизу», в котором голос каждого «жильца» (в том числе каждой этнической группы) слышен и где у всех членов сообщества есть понятный и близкий им общий интерес — процветание и благополучие их общего жилища.
<…>
Регионалистский подход, утверждающий право территориальных сообществ на независимость, в перспективе способен остановить межэтнические войны в странах третьего мира и создать в них предпосылки для устойчивого развития, выведя эти страны из порочной спирали внутренних смут, полицейского произвола, коррупции и нищеты.
Помощь таким странам, помимо чисто гуманитарного, приобретет в этом случае и экономический смысл. Логично предположить, что в итоге сократится поток беженцев, сегодня миллионами устремляющихся с «проклятого Юга» на «благословенный Север».
Регионалистский подход, возведенный в ранг международного концепта, может принести ощутимую пользу не только стремящимся к свободе меньшинствам, но и вообще всем людям, в том числе жителям зоны золотого миллиарда.
Дело в том, что модель регионального суверенитета позволит жильцам «региональных домов» корректировать негативные последствия глобализации более адресно и эффективно, чем это пытаются сегодня делать большие национальные правительства, оторвавшиеся от граждан и витающие в транснациональных высотах корпоративной стратосферы.
Итак, налицо несколько политических реалий, которые никак сегодня между собой идейно-политически не увязаны, но которые сама жизнь все более настоятельно толкает навстречу друг другу.
Во-первых, созрело поколение новых бунтарей и мир вплотную подошел к фазе глобального идейно-политического обновления.
Во-вторых, идейной основой, объединяющей современной протест, является анархизм, суть которого состоит в резкой критике института национального государства, оторванного от граждан и сообществ и являющегося инструментом реализации в первую очередь интересов мегабюрократии и корпораций.
В-третьих, современные национальные государства не справляются с вызовами глобализации и приносят интересы общества в угоду интересам корпораций.
В-четвертых, неустранимые сепаратистские коллизии, существующие внутри многих современных национальных государств, являются одним из главных источников международной нестабильности и форсированной миграции беженцев с «Юга» на «Север».
В-пятых, назрел и в текущем столетии должен произойти пересмотр существующих — архаичных, несправедливых и конфликтогенных — границ национальных государств, на месте которых образуются новые самоуправляющиеся национальные сообщества регионального типа.
Казалось бы, перед нами все ингредиенты нового революционного блюда под названием «Глобальный сепаратизм». Или, если угодно чуть помягче, «Региональный суверенитет против суверенитета национальных государств». Или «Локальные сообщества против глобальных корпораций». Все это, в сущности, об одном и том же…
И тем не менее это блюдо до сих пор не только никем не приготовлено, но даже не предложено мировому сообществу хотя бы для дегустации.
Вместо идеологии, делающей фундаментальный акцент на региональных правах и интересах и наполняющей жаром позитивной энергии воздушный шар новой революции, в этом вялом, полуспущенном монгольфьере по-прежнему царит холодный идеологический вакуум, частично заполняемый давно отработанными и остывшими газами полувековой давности.
То, что к становлению фундаментальной анархо-регионалистской идеи не стремится истеблишмент, понятно и объяснимо: срабатывает базовый инстинкт самосохранения, который присущ всем современным государствам без исключения.
Ведь легализация сепаратизма, то есть односторонней сецессии, означает формальное преодоление парадигмы национально-государственного суверенитета, что открывает дорогу к демонтажу любого из ныне существующих государств. А это создает потенциальную угрозу не только ригидным авторитарным режимам третьего мира, но и политически гибким демократическим государствам золотого миллиарда. Власть всегда стоит на страже системного status quo — в этом ее базовая функция.
Но вот почему несистемные протестные силы также отказываются от попытки обрести собственную позитивную Agenda?
Почему продолжают покорно идти в идейном фарватере истеблишмента, ограничиваясь его эмоциональной критикой и выклянчиванием у него мелких финансовых подачек, вроде налога Робин Гуда и прочей мелочи?
Одна из причин, наверное, кроется в том, что регионал-сецессионизму — именно в силу его глубокой индивидуальности в каждом конкретном случае — крайне трудно объединиться в международном масштабе. В самом деле, как можно сравнивать проблематику жителей индонезийской провинции Ачех с коллизией в отношениях между кабардинцами и балкарцами на Северном Кавказе или, допустим, между Данией и Фарерскими островами?
Однако эта причина все же не может быть признана решающей. Возникла же в 70-е годы XX века универсальная идеология «зеленых», которая породила «зеленую» политику и всемирное движение за экологию. А ведь, казалось бы, что общего между вопросом сохранения редкой фауны в Центральной Африке и проблемой загрязнения реки Амур китайскими предприятиями? Почти ничего. И тем не менее «зеленая» идеология существует и успешно развивается как теоретическая доктрина и гражданско-политическая практика. Таким образом, причина, по которой, несмотря на все политологические пророчества, региональный сепаратизм так до сих пор и не превратился в глобальный идейно-политический проект, в другом.
А именно в том, в чем заключается и причина, по которой в современном политическом пространстве отсутствует не только глобально-сепаратистский, но и вообще какой бы то ни было свежий идейный проект.
Об этой причине уже говорилось выше. Если определить ее одним словом, то это постмодерн. Страх перед новыми идеологиями, который в конце XX века парализовал общественную мысль на несколько десятилетий, а также нашествие гламурного консьюмеризма — все это оставило мировую общественность концептуально безоружной перед новыми вызовами.
Никакой конструктивной работы, помимо навязчиво невротической критики мира консьюмеристских симулякров, в течение этого времени не осуществлялось.
В итоге к началу второй декады XXI века в обществе, подошедшем к очередному революционному порогу, не только не оказалось никакого оригинального идейного проекта, но и в значительной мере утратилась вера в то, что такой проект целесообразен и вообще возможен. Впрочем, причины, по которым мировой дух как будто капитулировал перед мировой материей и впал в постмодернистскую меланхолию, в данном случае не так уж и важны. Гораздо важнее то, что независимо от этого новая Agenda — стихийно или осознанно — будет проявляться все более отчетливо.
«Антигосударственные» прогнозы политологов, а также те глобальные процессы, которые вызвали к жизни эти прогнозы, по-прежнему в силе. Это значит, что перманентная сецессия продолжит развиваться в XXI веке повсеместно.
Империализм национальных государств versus регионализм — вот главная коллизия XXI века. Империализм еще физически силен, но уже морально надломлен. Регионализм потенциально неодолим, но пока раздроблен и, главное, лишен самосознания. Однако есть все основания полагать, что в XXI веке глобальный сепаратизм получит наконец свое идеологическое оформление, перейдя из фазы стихийного саморазвертывания в фазу формирования универсального политического проекта.
Вопрос потому лишь в том, когда конкретно это произойдет — в ближайшие годы или позже.
Не исключено, что нынешняя мировая революционная беременность, яркими симптомами которой стали «арабская весна» и Occupy Movement, в итоге кончится «абортом», ничего нового в глобальном масштабе так и не породив.
В этом случае Система сохранит свои основные параметры, а протест так и не обнаружит истинного лица, которое останется скрытым под карнавальной маской Гая Фокса.
Через несколько лет молодые бунтари неизбежно повзрослеют, примутся делать карьеру, обзаведутся семьями, общественный климат постепенно станет более умеренным — и наступит очередная полоса более чем двадцатилетней глобальной консьюмеристской стабильности. Но если политика не поспевает за историей, истории ничего не остается, как совершаться помимо политики.
А это значит, что, когда спустя еще 20 с лишним лет наступит время очередного «молодежного цикла», революционным поколениям будущего останется лишь запоздало подвести идейную черту под тем, что за эти годы свершится само собой.
Остановить колеса истории не смогут ни материальное торжество Wall Street, ни идейное бессилие Occupy Movement.
Гражданская свобода, которой остается все меньше места в амбициозном национально-государственном билдинге, пропитанном духом корпоративного отчуждения и «высокого бюрократизма», в XXI веке обретет новые, более близкие к людям, региональные стены.
Утверждение локального достоинства — local dignity — исторически самодовлеющих региональных домов, как можно предположить, станет в этом случае эффективным противовесом эгоизму самодовлеющего истеблишмента и транснационального капитала.
Институционально оформленная межрегиональная солидарность в конце концов превратит локальную слабость в глобальную силу.
И тогда из региональных государств, как из кирпичей, сложится новое международное здание, способное жить в условиях большей политической гармонии и финансово-экономической стабильности.
Даниил Коцюбинский