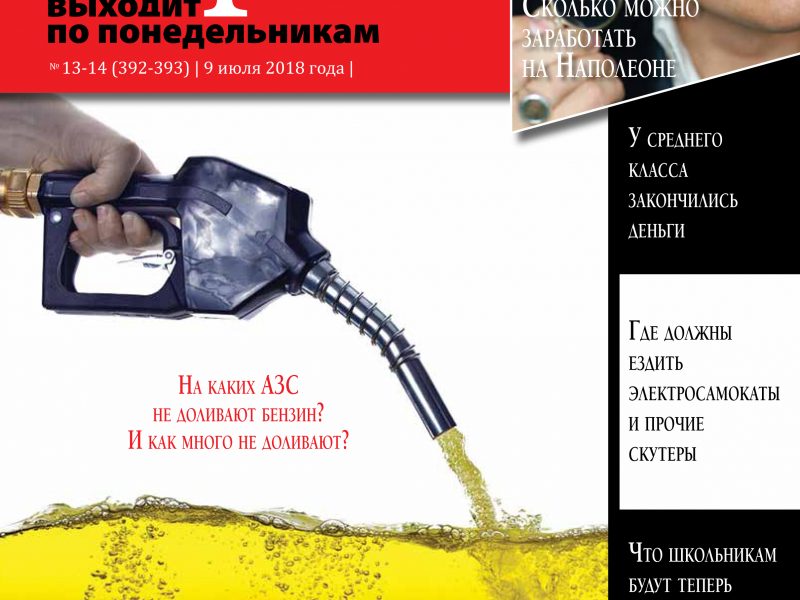Андрей Геласимов еще несколько месяцев назад был известен в России лишь в узком кругу писательской тусовки. Но после того, как он получил премию «Национальный бестселлер» за свой роман «Степные боги», о Геласимове заговорили все – как о яром патриоте, возрождающем в литературе тему Отечественной войны. Online812.ru пообщался с писателем, и тот рассказал, что его показной патриотизм – защитная реакция на нападки европейцев.
Россия – поле эксперимента
– Андрей, французы, говорят, оценили вас раньше соотечественников?
– Действительно, французские издательства покупают все, что я пишу, а в 2005 году французы объявили меня самым читаемым русским писателем. Связано это, скорее всего, с неподдельным интересом к России. Не только у французов, а вообще у европейцев. Мне один профессор славистики из Барселоны объяснил почему. Я приехал в Барселону в прошлом сентябре вскоре после югоосетинского конфликта. Гуляем с профессором по городу, и я у него спрашиваю: “Рикардо, что вы так к нам прицепились с Грузией? Когда Израиль в прошлом году вошел в Ливан, вы так не возмущались, хотя он вторгся на территорию независимого государства”. А он мне ответил: “Мы не знаем, чего от вас ждать!” Это и объясняет интерес к русской литературе. Огромная страна, непонятно, в какую сторону она двинется, что предпримет.
– Любопытство?
– Да. Недавно одна французская журналистка мне призналась: у них в Европе жизнь остановилась, а у нас происходит сейчас. Там процессы прошли, они живут в музее. А у нас лаборатория, в которой идет эксперимент. Вот представьте: вы приходите в НИИ, везде стеклянные темные окна, таблички висят: “Руками не трогать, эксперимент завершен!”, и в одной горит свет, и мужики в халатах суетятся. Куда вы заглянете? Ответ очевиден.
– Заглядывать-то заглядывают, но со страхом…
– Смотрите: сейчас появилось много спекуляций вокруг Полтавской битвы. Но шведские историки признают одно. Тогда совершенно новая армия Петра I – до него ведь у русских армии не было – разбила самую мощную военную машину в Европе. Ни одно государство не могло сопротивляться шведам, и тут славяне-неофиты разобрались. Это было в XVIII веке. В XIX веке мы так же поступили со второй военной машиной – французской. И в XX веке мы сломали третью главную военную машину Европы, которой опять никто не мог противостоять. Европа нам этого простить не может до сих пор. Поэтому они злятся, поэтому устанавливают ПРО. Тем более наступил XXI век, и есть новая военная машина – американская.
“Не смогу стрелять в американцев”
– Странно слышать ваши великодержавные речи, ведь вы профессор английской филологии, жили долгое время за границей. Вы всегда были таким патриотом?!
– Патриотизм – это защитная реакция, потому что на нас наезжают очень крепко последние лет десять. Когда Михаил Сергеевич затеял перестройку, нас все европейцы очень любили, гладили по голове. Но они просто хотели растащить эту страну, уничтожить как нацию. А потом мне стало обидно. Мои предки (а у меня в роду донские казаки) уперлись аж за Байкал, чтобы увеличить страну, сражались, лили кровь под Мукденом и в Порт-Артуре. И я это отдам? А зачем? Я не хочу, чтобы Россия стояла на коленях, мы этого не заслужили – не только из-за Порт-Артура, но и из-за Чайковского, Пушкина, таблицы Менделеева… Я хочу принадлежать к великой нации. Как американцы гордятся, что они родились в США! Почему я должен испытывать комплекс неполноценности из-за того, что не принадлежу к великой американской нации? Обойдетесь!
Но я не всегда был таким патриотом. Когда только приехал преподавать в Англию, то стеснялся говорить, что я из России. Я говорил: “I am from Siberia” – “Я из Сибири”. А для них что “Сайбериа”, что “Найгериа” – примерно одно и то же.
– Что же стало толчком к тому, что вы из человека, стыдящегося слова “Россия”, превратились в пламенного патриота?
– Наверное, из-за частых поездок в Европу. Я увидел русских эмигрантов, которые ругают свою страну – в массе своей они неудачники, работающие садовниками, почтальонами и шоферами. Хотите байку? Сидим мы как-то с Люсей Улицкой на встрече с читателями где-то на юге Франции. И к нам подходит бабушка, ей лет 70, говорит, что из Ленинграда. Она сначала мне, а потом Улицкой мозг так запарила! “Я работаю охранником в частном саду, я снайпер, я стреляю воров. Знаете, какая я меткая? Я сначала в Сицилии стреляла, теперь во Франции – сижу с ружьем”. Потом бабушка ушла, Люся ко мне поворачивается и крутит пальцем у виска. Диагноз ясен. Вот вам образ русского эмигранта.
– Ну хорошо, это все слова, а вы сами готовы свою родину защищать, если придется?
– Я же вырос в семье офицера, хотел поступать в военное училище, но меня не взяли – прикус не тот. Это была самая большая трагедия тогда для меня. Я ведь жил Великой Отечественной войной, мне фашисты до сих пор снятся. Поэтому мне было так важно, как примут роман “Степные боги”, ведь война – самая главная для меня тема. Никак не могу понять, что там происходит. Как Хемингуэй, который ездил с войны на войну.
– С Америкой у нас войны не планируется, Обама и Медведев поддержали идею “перезагрузки отношений”. Как вам эта идея?
– Я отношусь к ней очень положительно. При всей своей российской агрессии, при всем своем патриотизме, если бы началась война в Америкой, я бы ни в коем случае не смог бы в ней участвовать.
– Но вы же сами говорили про американскую военную машину…
– Я не могу стрелять в людей, которые являются соотечественниками Элвиса Пресли, Фолкнера, Фитцджеральда. И никогда не смогу. Я не шучу. Мы с американцами очень похожи друг на друга – молодые нации, большие территории. Просто два больших пса встретились, а рядом сучка в течке. Ну, естественно, они рычать будут. Сучка – это весь мир. Мне оба этих пса нравятся! Мне Америка нравится – там придумана демократия, блестящая основа для построения общества. Мне нравится их федерализм. Я бы хотел, чтобы Россия дошла до этих демократических норм.
Премию – нищему гению
– Андрей, многие говорят, что сейчас литература стала частью шоу-бизнеса…
– Это касается Сергея Минаева, Оксаны Робски и прочих подобных авторов. Они действительно часть шоу-бизнеса. Заметьте, я не вижу в этом ничего дурного! Я же не против того, что мой сосед, например, открыл ларек с шаурмой. Это здорово, я желаю всем им удачи. Только это не имеет никакого отношения к литературе. Ничего личного, только бизнес. А вообще я ничего не могу толком сказать о своих коллегах по цеху, потому что 90 процентов моего чтения – это англоязычная литература. И только десять процентов – наша.
– И все-таки – если бы вы решали, кому бы вы дали премию “Национальный бестселлер”?
– Из наших современников? Надо подумать. О, я знаю. Есть поэт, который никому не известен, живет в Дрездене, Анатолий Гринвальд. У него вышла всего одна тоненькая книжка, но там есть фантастические стихи. Я даже запомнил финал одного стихотворения:
Я обвенчаюсь в православном храме,
Поп за венчание возьмет с нас по тарифу,
При случае отдаст те деньги Богу,
А Бог при случае раздаст свои долги.
Но мне он ничего, увы, не должен,
Как я – ему не должен. Ничего.
Как вам? Это гениально. А сам поэт без денег, ходит в старом бабушкином свитере. Нищий гений.
– Вы нищим не были, но долгое время “писали в стол”. Тяжело было?
– Я и не хотел становиться публичным человеком. Я писал по велению сердца, как другие рисуют. Сидел ночью, укачивал ребенка. У нас очень сильно болел второй сын, и мы с женой по очереди по ночам сидели с ним. У него диатез, сепсис… Ребенку два года, мы ему на руки надевали носочки, чтобы он в кровь себя не раздирал. Он вскидывается, смотрит на меня и начинает чесать, я хватаю его за руки: “Боря, Боря, потерпи, пройдет!” А он об подушку начинает головой чесаться и тихо-тихо говорит: “Мне больно, папа”. И его слеза стекает к уху через спекшуюся коросту. В этот момент я стал писателем. Потому что мне было очень плохо.