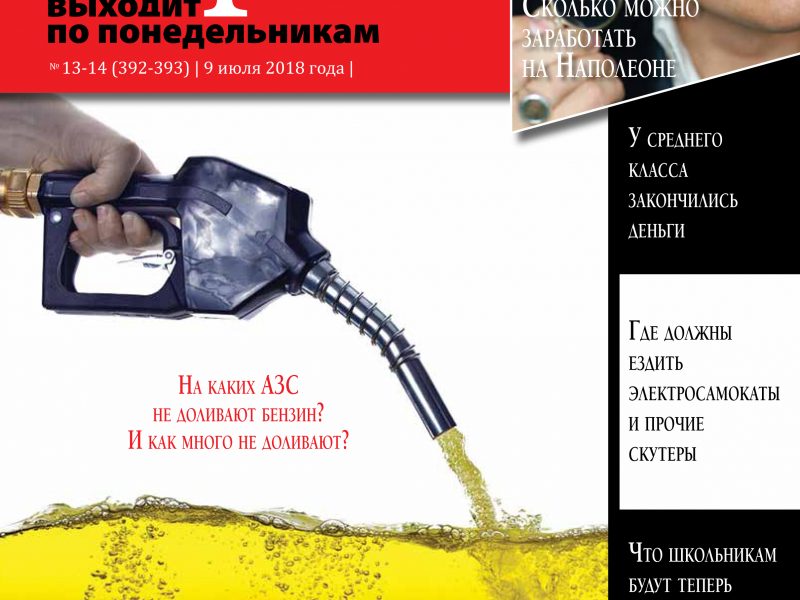Есть ли в России современная литература, достойная просвещенного читателя? – ответ на этот вопрос ищут давно, но найти не могут. Мы попытались сделать это с помощью петербургского филолога Андрея АСТВАЦАТУРОВА, автора успевшей изрядно нашуметь квазиавтобиографической книги «Люди в голом».
– Нынешняя отечественная литература заражена тоской по советскому прошлому. В чем причина? Или вы этого не замечаете?
– Да, ностальгия по Советскому Союзу есть у тех интеллектуалов, с которыми я так или иначе общаюсь. Но далеко не у всех. Либералы, например, не ностальгируют. Думаю, что все, что мы имеем в плане ностальгии по великой империи, которой был Советский Союз или которой он казался, проистекает, скорее, от неудовольствия по отношению к настоящему, потому что настоящее мало кого может устраивать, за исключением, скажем, бизнесменов, которые хорошо зарабатывают, или каких-нибудь профессоров-грантодобытчиков, которых, правда, становится все меньше.
Но это – некая поза, это не настоящая ностальгия, так же как во время Советского Союза у интеллигентов была ностальгия по дореволюционной России, которой они никогда не видели. Скажем, мы начинаем говорить, что в СССР пища была более натуральная, хотя тогда нам тоже предлагали некачественную еду.
Вообще, ситуация ностальгии или, наоборот, попытки выстроить свою жизнь относительно какого-то миража будущего возникает в нашей культуре постоянно. В 60 – 70-е советский народ учили, что настанет коммунизм, еще только несколько шагов, и мы окажемся в светлом будущем. В 90-е нам тоже говорили, что придет либерализм и будет здорово. Т.е. мы живем либо прошлым, либо будущим.
– Это плохо?
– Участь страны, которая закрывается от настоящего и не в состоянии жить настоящим, а это происходит с Россией постоянно, весьма печальна. Такая модель самосознания не открывает никаких перспектив. Сегодняшняя ностальгия это разворот в искусственное прошлое. То, что говорит Михаил Елизаров в “Библиотекаре”, это своего рода ирония в адрес такой ностальгии. Он рассуждает о Небесном Советском Союзе как о граде Китеже, т.е. подчеркивает, что мы любим Советский Союз не таким, каким он был, а каким он должен был быть. Это ситуация еще не и уже не. Это невозможность жить настоящим, которое безобразно. Нет будущего и нет как будто бы настоящего прошлого.
– Давайте про нашу литературу поговорим – на Западе ее знают?
– У нас большая часть известных авторов переводится на европейские языки. Налажена связь с западными литературными агентами. Но говорить, что наша литература как-то особенно интересна на Западе, я бы не рискнул. Более-менее ею интересуются в Германии. Там читают Владимира Сорокина, Людмилу Улицкую, но там – большая русская диаспора. Со всеми остальными странами достаточно сложно. Того же Сорокина очень активно продают в США. Он, если и не стал конкурентоспособен на этом рынке, то, по крайней мере, смог там появиться. Но важно понимать, что там свои авторы и своя рыночная конъюнктура. Естественно, западным авторам и западным издателям не очень выгодно пускать русских литераторов, даже если они переведены и напечатаны, на свой рынок.
Герман Садулаев, например, переведен на испанский, на немецкий, на финский, но это не значит, что Германа читают хорошо в Германии. Это значит, что теоретически они могут его прочесть. Захар Прилепин переведен на французский и, говорят, неплохо, и кто-то тоже сможет прочитать его во Франции и т.д., но это не значит, что он там присутствует как автор, который активно продается и которого все знают.
– Кризис как-то повлиял на литературу, на книжный рынок?
– Новых имен практически нет. Сумасшедших пятизначных тиражей теперь тоже нет. 250 тысяч экземпляров, проданные Сорокиным за 2 года, – теперь такая ситуация невозможна. Сейчас отличный тираж книги – 4 тысячи. Издатели стали очень осторожны. Моей знакомой, очень неплохому писателю, отказали во многих издательствах, потому что она не продастся окупаемым тиражом в 3 тысячи экземпляров. Раньше издателям важно было именно охватить всех авторов и везде попробовать. Я имею в виду книжные империи “АСТ”, “Эксмо”. Сейчас эти эксперименты будут более осторожными. Соответственно, новые имена – это страшный риск для издательских империй. Благодаря тому, что издательства стали осторожнее, будет меньше литературного мусора, но меньше и экспериментальной литературы.
– И как на изменение тренда отреагировали авторы?
– Александр Иванов – главный издатель “Ad Marginem’а” – рассказывал мне, что если раньше к нему просто приходили и приносили графоманскую рукопись, то сейчас приходит человек и четко говорит с пониманием сегмент-группы или рынка, что например, вот этот роман рассчитан на молодых людей от 18 до 25 лет с техническим образованием или на барменов в ночных клубах.
Т.е. молодежь сейчас занята не поиском себя посредством литературы, а попыткой обслужить какую-то группу. Она мыслит себя с позиции рынка. Вот этим сейчас отчасти занята литературная молодежь. И это, на мой взгляд, совершенно неправильно. Нужно пытаться отражать время или пытаться говорить от имени какого-то своего внутреннего, глубинного “я”, но не идти от рынка. Но молодежь, поскольку ей внушили идею сиюминутного успеха, начинает и литературу использовать как средство к достижению этих целей. Поэтому кризис уменьшит количество людей, случайно пришедших в литературу.
– А вы знаете, как определить – вот этот писатель гениальный, а этот – просто хороший?
– Первый признак гения – это расточительность, а не профессионализм. Есть хорошие писатели, но они не гении. Есть писатели более слабые, но они гениальны. В них есть эта расточительность, импульс жертвенности и взаимопомощи.
– А как вы думаете, почему современному читателю неинтересна поэзия?
– Это все же не совсем так. Поэзия ушла с территории рынка и тем самым выпала из территории большой литературы. Надо понимать, что поэтов, которые существуют вокруг премии им. Андрея Белого, не читают. У них сто человек – это их собственные друзья, коллеги и еще 5 – 10 человек студентов, которые перестанут их читать через какое-то время. Но вот Всеволод Емелин, например, собирает полные залы, на него приходят. Если у меня есть возможность – я прихожу на него. Андрей Родионов, Шиш Брянский – также вполне успешные поэты. И, конечно, Дмитрий Быков. Я был на его поэтическом вечере, и огромный зал был заполнен больше чем наполовину.
– Но раньше-то стихи читали в разы больше?
– Почему поэзия в целом непопулярна? А в чем социальная задача поэзии? В том, чтобы уточнять слова, не дать им превратиться в бессмысленные штампы. Но сейчас этот микроинтерес к слову как таковому у молодежи пропал. Молодежь сейчас аудиовизуальная: им нужны картинки, резкие звуки.
Есть и другие причины. Поэзия пошла по пути дикого усложнения формы. У современных русских поэтов, которые ощущают себя элитарными, много интересных метафор, но нет воли. Это просто построение гиперусложненных образов, каких-то дико трудных словесных схем. Социальную роль поэзии взяла на себя проза.
– Вот вы написали книгу – “Люди в голом”. Там была социальная роль? К чему хотели подтолкнуть читателя?
– Хотя в принципе литература никуда никого не подталкивает и никого не воспитывает. Она может только компенсировать. Литература компенсирует, скажем, наше желание кем-то быть. Посмотрел на этот персонаж, и тебе этого уже хватило. Твоя энергия, которая не нашла реализации в жизни, компенсируется посредством литературы.
Задача моей прозы отчасти антилитературная. Я пытаюсь это сделать разными способами, в первой части у меня там голый человек и вопиющая антилитературность. Во второй части все это, наоборот, слишком есть. Я предлагаю разные варианты самореализации человека. Мне бы очень хотелось, чтобы люди, читая мою прозу, как-то менялись, возвращались к самим себе.
– А многим кажется, что ваша книга просто забавна.
– Меня не оскорбляет, если человеку нравится моя проза, просто потому что она смешная и веселая. Он ее прочитал, и все равно подспудно он будет меняться. Во второй части я пытаюсь как-то травмировать читателя, говоря: “Вот это плохо, да – но это – нормально”. Там человек умирает, а я говорю: “Очень хорошо! Очень хорошая новость! Замечательная!”, но это говорит мой повествователь. Да, я там поощряю собственную трусость, я ее не скрываю. Может быть, я похож на Марусю Климову, на Селина, но в отличие от этих авторов, я пытаюсь много цитировать. Много цитат, отсылок к заранее заданным сюжетам. Это путешествие по культуре, по человеку и по жанрам.
– То есть это псевдоавтобиография – и вроде попытка возрождения психологической прозы?
– Я не заявлял о возрождении психологической прозы. Я писал, что некоторые авторы пытаются возродить психологическую прозу, но сейчас это не очень хорошо у них получается. Последними гигантами в плане психологической прозы были Вирджиния Вульф и Марсель Пруст. Встречаются удачные образцы психологичной прозы в современной английской литературе. В нашей много меньше. Пытается работать в этом направлении Александр Снегирев – автор романа “Нефтяная Венера”. Прилепин очень много делает с ориентацией на какие-то находки Леонида Леонова. Замечательный прозаик – Элина Войцеховская – автор романа “Via Fati”, также работает в традиции психологической литературы. Но в целом это, на мой взгляд, – бесперспективная линия.
Я сам скорее избегаю психологизма. Это псевдопсихологизм. У меня все мысли, все переживания намеренно заштампованы. Т.е. эти внутренние поиски ведут в никуда, они предсказуемы. Они являются цитатами. Это такой психологизм, который захлебывается сам в себе. Мне интересно, когда человек ничего не думает, а просто случайно действует, случайно говорит…
– В жанре псевдобиографической прозы написано большинство романов Генри Миллера, которому вы посвятили немалую часть своей жизни. Вы пытались повторить Миллера?
– Влияние, конечно, есть. Но у нас разные масштабы и уровни. Он – культовый автор XX века. Я же пока автор одного более-менее занятного романа, не более того. Нас трудно сравнивать. Я просто тоже принадлежу к этой традиции, которая идет от Генри Торо, Эмерсона. Я пишу текст не для того, чтобы написать качественный, хороший текст. Я пытаюсь представить себе вариант мира. Это чисто американский подход. Именно этим я, быть может, сопоставим с Миллером.
Миллер так себя в жизни не вел, как он изображает в романах. Возможно, он мог себя так повести, но он себя так не вел. Это проживание собственного опыта на бумаге, в литературе. В этом состоит моя задача…
– А если бы ваша жизнь была книгой, которую вы могли бы переписать, какую часть вы бы исправили?
– Их много. Их столько! Я бы всю ее переписал от начала до конца. В первую очередь я бы не стал учиться в той школе, где я учился. Во-вторых, я бы, наверное, не пошел на этот факультет. В-третьих, я бы не жил с теми женщинами, с которыми я жил. Я бы все изменил. Меня ничего не устраивает в прошлом. Там ничего интересного нет. Я бы все в жизни изменил, если бы она была литературным произведением. Очень много я сделал ошибок. Я попадал в ситуации, когда делал неправильный выбор, после которого мне потом мучительно удавалось выбраться на поверхность. Я бы многое изменил…
– Вы знаете, как сделать человека счастливым?
– Я считаю, что человек обречен быть несчастливым. Другое дело, что человек должен вести себя несколько иначе, не как хищник. Здесь я, наверное, сторонник идей солидарности и взаимопомощи.
– То есть объединяться надо?
– Я не призываю человечество объединяться. В культуре больших городов это очень сложно. Я не вижу людей, с которыми я готов был бы объединяться, к сожалению. Мы жрем друг друга, как пауки в банке. Если бы мы были разбросаны, если бы города не были так заполнены людьми – это бы помогало. Чем больше толпы, тем больше люди разобщены. Мне неприятно жить среди волков.