Оглядывая огромный массив советской военной прозы от пропагандистски-апологетической до самой что ни на есть оппозиционной – «окопной», «лейтенантской» или «партизанской», не сразу замечаешь, что в ней полностью отсутствует мотив «потерянного поколения» – все высокие слова, де, обманули, нами воспользовались и тому подобное.
Разумеется, при советской власти открытые декларации такого рода были невозможны, но ведь писатели народ настырный, если какая-то правда представляется им до крайности важной, они протаскивают ее в мир не мытьем, так катаньем. Они могут отдать какую-то крамольную мысль отрицательному герою или даже герою положительному в минуту душевного упадка, чтобы тут же разоблачить ее и отвергнуть (но семя сомнения в душу читателя все равно окажется заброшенным). Они могут под псевдонимом или без пустить вещь в сам- или тамиздат; они могут ронять какие-то намеки в статьях или интервью; они что-то могут выразить даже неуловимым настроением вещи вплоть до интонации, мелодии фразы; наконец они могут писать «в стол», чтобы выкрикнуть наболевшую правду потомкам хотя бы после своей смерти. Но ничего этого так никто и не сделал.
Ни Виктор Некрасов, ни Казакевич, ни Гроссман, ни Василь Быков, Бондарев, Бакланов, Константин Воробьев, Курочкин, Астафьев ни в подцензурном, ни в нецензурном слове ни разу не усомнились ни в целях войны, ни в огромной ценности достигнутой победы. Сколько бы они ни разоблачали, сколько бы ни проклинали бессердечие, шкурничество и глупость командования, бессмысленную жестокость и подозрительность «органов», воровство интендантов и всяческих тыловых крыс, война все равно оставалась для них великим историческим событием, причастностью к которому можно только гордиться.
А это означает, что война действительно была народной. И даже священной.
Последнее слово кажется особенно странным – ведь война даже при самом скрупулезном соблюдении «законов и обычаев войны» требует чудовищной жестокости… Но не только – еще и самопожертвования. Вот эта готовность людей подвергать себя смертельному риску во имя долга и порождает в памяти представление о святости, ибо люди никогда не жертвуют собой во имя утилитарных целей – только во имя святынь.
При этом святыня вовсе не обязана быть незапятнанной. Конечно, чем меньше на ней пятен, тем лучше, но – пятна пятнами, а святость святостью.
Серьезному писателю захотелось заглянуть и в душу дезертира только через четверть века после победы. Валентин Распутин в «Живи и помни» изобразил его отнюдь не чудовищем, он тоже отвечал на какую-то несправедливость. Но даже он не оправдывал свой поступок: если б можно было после этого поднимать, то по три раза бы расстреливали. В опубликованных дневниках Гроссмана тоже в глазах рябит от жестокостей, и тоже нет ни намека на то, что можно воевать как-то иначе. А уж он ли был не гуманист!
Разумеется, всякий, кто сталкивался с войной вблизи или даже издали, прекрасно знает, что смертельная опасность тысячекратно усиливает все – и благородство, и низость. Каждый писатель от Астафьева до Эренбурга видел и мародерство, и садизм, и озверение, вымещающее на одних вину других, но никто не пожелал сделать насильника или мародера хоть сколько-нибудь значительной фигурой своего повествования. Борьбе с мерзостями они готовы были отвести разве что какой-то фрагмент публицистики, но для вечности все желали оставить лишь высокую трагедию – гениальнейшее создание человеческого духа, порождающее в нашей душе удивительное сочетание ужаса и восторга.
Хотя «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева в эту схему, пожалуй, не укладываются. Но этот роман-проповедь требует отдельного разговора.
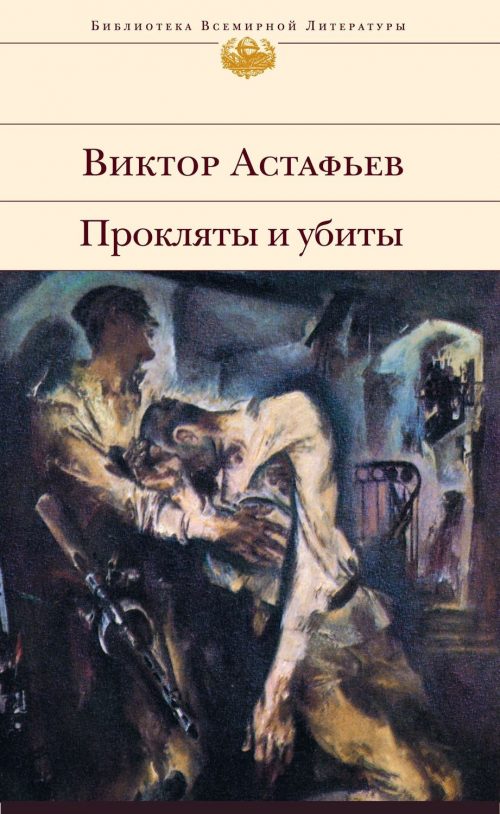
.
Виктора Астафьева я долгое время не читал, даже когда он был уже вполне знаменит: мне почему-то казалось, что это очередной эпигон Шолохова, – «коловерть круговертью промызнула по кулигам чернотала, а народушко-от закуржавел с лихолетья». Но когда справедливости ради я заставил себя взяться за «Царь-рыбу», я был ослеплен и оглушен красками, звуками, пленен гиперреалистической достоверностью, юмором… А глава «Уха на Боганиде» повергла меня в такую восхищенную немоту, что, кажется, только она и спасла меня от конфуза: я все-таки удержался и не отправил Астафьеву восторженное письмо, которое сочинял несколько дней подряд. Теперь даже жалею – вдруг бы оно все-таки доставило певцу несколько теплых минут.
И любопытно, вспомнил ли бы он об этом письме, когда писал для «Литературной газеты» возмущенную статью о моем «Романе с простатитом», опубликованном в «Новом мире» в середине девяностых. К концу филиппики, правда, классик сменил гнев на относительную милость (мне кажется, он вообще был очень добрым, но взрывным, как все обостренно чувствительные люди): «Большинство любой литературы – нашей или американской, – она вся об одиночестве человека. И то, что современные прозаики и поэты изобразили, пусть и в безобразном виде (будь это Петрушевская или Мелихов), но нащупали эту трагедию, – их заслуга. Мы, старики, так не умеем».
Надо сказать, я нисколько на него не обиделся, и не только потому, что он «имел право», – это само собой, если уж Толстой мог обругать Шекспира, а Набоков Достоевского. Но мне казалось, да и сейчас кажется, что голосом Астафьева говорила какая-то традиция, и в этом смысле он действительно – хотя и не единственный, разумеется – глас народа.
С тем же самым желанием расслышать этот глас, не затыкая уши, если даже он наговорит чего-то, на мой взгляд, несправедливого, я взялся и за его итоговый роман «Прокляты и убиты». Мое дело, говорил я себе, прежде всего узнавать и понимать, как, скажем, у геолога, который лишь в последнюю очередь задумывается, а не лучше ли было бы передвинуть Уральский хребет налево или направо. Коллективные представления, они же стереотипы или предрассудки, а любая традиция в них и заключается, поддаются целенаправленному преобразованию не намного легче, чем геологические образования, – их меняет лишь история. Так что поменьше обличений чужих предрассудков и стереотипов с высоты моих собственных. Не вспоминать, к примеру, ответное письмо Астафьева Эйдельману, в котором, он наговорил яростных слов о еврейском высокомерии и русском национальном возрождении и в котором, по свидетельству Мариэтты Чудаковой, он впоследствии раскаивался. Да и Лев Толстой завещал миру публиковать только те его сочинения, которые он сам отдал в печать, ибо всякому человеку свойственно сгоряча высказывать и прямые глупости. Особенно в ситуации конфликта, когда каждый стремится выразить не столько то, что он действительно чувствует, сколько то, что лучше защитит его в глазах его референтной группы и побольнее уязвит противника.
А писатели, строящие свое мироздание из сугубо личных впечатлений – в сущности, из впечатлений ребенка, живущего в них до седых волос или до полной их утраты, – и вовсе могут выражать свои подлинные чувства лишь в художественных образах, когда им не нужно притворяться идеологически выдержанными.
Вот я и стремился читать «Прокляты и убиты», стараясь побольше узнавать и поменьше обличать. И убедился, что Астафьев отнюдь не устрашился изобразить советский тыл – «курс молодого бойца» – в самом безобразном виде. Вши, массовый понос, поседевшие от соли штаны доходяг явлены с поистине физиологической достоверностью. И отношение к ним товарищей не столько по оружию, сколько по несчастью тоже изображено как брезгливое и безжалостное. Правда, когда самого полумертвого из них прямо перед строем забивает насмерть офицер с физиономией, формой и размером напоминающей ведро, они едва не поднимают его на штыки. Деревянные, винтовок для обучения не хватает.
В общем, условия совершенно пещерные с той разницей, что троглодитов по-видимому их кухонная обслуга не обкрадывала с такой наглостью. А конвой не препятствовал добывать пищу самостоятельно.
И все это описано с доскональным знанием подробностей – чего стоят одни только тазики, в которые наливают хлебово, с дырками вместо оторванных ручек: и горячо держать, и драгоценная жидкость утекает – тут не качать права, а скорее бежать к своей команде, чтобы побольше донести.
Боеспособность будущих бойцов падает на глазах, у них развивается самая настоящая алиментарная дистрофия (поименованная в послесловии элементарной дистрофией), распространяется куриная слепота, отупение (в винтовочных затворах перестают разбираться и те, кто их до этого хорошо знал), – лучше всех приспосабливаются блатные да приблатненные, это для них естественный образ жизни – тырить, подмасливать, выменивать, объегоривать…
А когда с небес разражается грозный приказ 227, то подтягивают, разумеется, не кухонное ворье и не тыловую придурню, а первых подвернувшихся рядовых полуобученных: братьев, отлучившихся в родную деревню, показательно расстреливают, хотя с них было бы вполне достаточно «губы», в самом крайнем случае – штрафбата.
Астафьев живописует весь этот непроглядный мрак столь длительно и скрупулезно, что читательская жажда возмездия наконец становится невыносимой, хочется срочно найти козла отпущения, какого-нибудь толстопузого буржуя – в данном случае генерала. Но, увы, промелькнувшие в этом аду два генерала явно желали улучшений, а один так даже огрел ведром кого-то из кухонной обслуги. Но генерал уехал, и сделалось еще хуже: этот хребет, как и всякий устоявшийся уклад, по-видимому тоже может сместить лишь сама история.
Персонажей в романе очень много, как и положено в эпосе, и все написаны точными, хотя и скуповатыми для Астафьева штрихами и мазками. Но чем дольше читаешь, тем больше видишь, что это не эпос, стремящийся как можно роскошнее передать красоты и ужасы какой-то вселенной, а проповедь, которая стремится чему-то научить, что-то воспеть, а что-то проклясть. В «Царь-рыбе» достоверны и роскошны, кажется, все, кроме Гоги Герцева, карикатурного во всем, начиная с имени и фамилии, какими склонны наделять братьев-славян простодушные американские писатели (Хемингуэй, придумавший Каркова, Джек Лондон, выдумавший Субьенкова…).
«Последний поклон» я давно не перечитывал, но схематизма не припоминаю, а роскошества так и стоят в глазах. В романе же «Прокляты и убиты» роскошеств, «архитектурных излишеств», которые более всего и придают очарование художественной прозе, для Астафьева имеется очень мало (хотя для какого-нибудь середнячка-реалиста это было бы истинное барокко), почти все центральные персонажи – сюжетные функции, почти про каждого можно объяснить, что им хочет сказать автор.
Положительные герои и вовсе написаны одной краской, демонстрируют какую-то одну черту характера, а то даже и не характера, но системы убеждений. Отрицательные герои тоже состоят из одной лишь подлости, интереснее прочих, пожалуй, озорники, все как один с примесью уголовного оттенка. Но и при их помощи автор тоже стремится дать какой-то урок. Так, неунывающего приблатненного отчаюгу отправляют в штрафбат, но держится он в трибунале с такой дерзостью, что едва не побуждает к мятежу новобранцев, которых надеялись припугнуть этим показательным процессом. То есть бунта можно ждать лишь от авантюристических анархистов, идейным же образом власти противостоят только два юродивых. Один из них старовер, ссылающийся на авторитет своей бабушки Секлетиньи: «На одной стихире, баушка Секлетинья сказывала, писано было, что все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты».
Но этот блаженный настоящий богатырь по части физической силы. А вот второй, его антипод, полуармянин-полуеврей, образованный отпрыск среднесоветской знати, – долговязый, тощий, готовый доходяга, выживает лишь потому, что к его грамотности проникаются уважением более простецкие корешки. «Вид Васконяна раздражал всех, кто его зрил, да и досаждал он старшим чинам своей умственностью, прямо-таки одергивал с неба на землю тех самоуверенных командиров, особо политработников, которые думали, что все про все знают, потому как никогда никаких возражений своим речам и умопросвещению не встречали. Крепче всего их резал, с ног валил Васконян, когда речь заходила о свободе, равенстве, братстве, которое хвастается своим гуманизмом, грозился Международным Красным Крестом, который в конце концов доберется до сибирских лесов и узнает обо всех «безобгазиях, здесь твогящихся». «Молчи ты, молчи, — шипели на Васконяна ребята, дергали его за рубаху, когда тот вступал в умственные пререкания со старшими по званию, — опять воду таскать пошлют, обольешься — где тебя сушить? На занятиях мокрому хана…»
Вот какими должны быть отношения народа и интеллигенции, как бы говорит нам Астафьев. Народ помогает интеллигенту выжить в жестоком материальном мире, а тот проникается к народу любовью: «Жизнь не бывает неспгаведливой. Жестокой, подвой, свинской бывает, неспгаведливой – нет. Откуда бы я узнав вашу жизнь, гебята, если б не попав сюда, в эту чегтову яму? Как бы я оценив эту вот кагтофелину, кусочек дгагоценного сава, все, что вы отогвали от себя? Из своей квагтигы? Где я не ев макагоны по-фвотски, где в гостиной в вазе постоянно засыхали фгукты? Кого бы и что бы я увидев из пегсональной машины и театгальной ожи. Все пгавильно. Если мне и суждено погибнуть, то с любовью в сегдце к людям».
Причем этих самых людей автор может припечатать и очень сурово: «Выгрузка леса в первой роте пошла быстрее. Вторая рота тут же переняла передовой опыт — там тоже по связке кто-то бегал с палкой, лупил волокущих бревно братьев по классу, будто колхозных кляч, люто матерясь. Эта вот особенность нашего любимого крещеного народа: получив хоть на время хоть какую-то, пусть самую ничтожную, власть (дневального по казарме, дежурного по бане, старшего команды на работе, бригадира, десятника и, не дай Бог, тюремного надзирателя или охранника), остервенело глумиться над своим же братом, истязать его, — достигшая широкого размаха во время коллективизации, переселения и преследования крестьян, обретала все большую силу, набирала все большую практику, и ой каким потоком она еще разольется по стране, и ой что она с русским народом сделает, как исказит его нрав, остервенит его, прославленного за добродушие характера».
Нрав народа искажает его же собственная особенность… Ладно, пропустим: мое дело узнавать, а не подлавливать.
В стане врага – власти, судя по роману, идейными тоже бывают только юродивые. Мужеподобная Степка (Степанида) «обреталась в области того советского искусства, которое скорее и точнее назвать бы бесовством» – с выкрикиваньем лозунгов, с шагом на месте под барабанный бой, — она и не заметила, с чего это у нее вдруг появился сынишка. Такую придурочную, пожалуй, можно и простить, намекает автор, но более пронырливые проповедники осточертевшей решительно всем партийной демагогии отвратительны ему до такой степени, что главного из них, начальника политотдела Мусика, он наделяет не только отвратительной внешностью, но и гадким именем-отчеством: Лазарь Исакович.
Принципиально не стану обсуждать, насколько такое типично, мое дело фиксировать и понимать, какую картину войны пожелал оставить миру писатель, являющийся одним из важнейших голосов своей социальной группы. И в этой картине Мусика, единственного из тыловой сволочи, настигает заслуженное возмездие – его убивает рыцарь без страха и упрека капитан Щусь, изобразив дело случайным наездом на мину.
В общем, Астафьев изображает войну как не просто беспредельно жестокое и безобразное дело (раскисшие трупы, мухи, крысы…), но и как беспредельно подлое. И все же при этом свои остаются для него своими, ему всегда дороги те, кто выполняет свой долг на нашей стороне, хотя он никогда не стремится показать, что немцы более звери, чем русские, он клянет звериное начало человеческой породы, не разбирая наций и партий. И все-таки отыскивает и персонального виновника.
«Выродок из выродков, вылупившийся из семьи чужеродных шляпников и цареубийц, до второго распятия Бога и детоубийства дошедший, будучи наказан Господом за тяжкие грехи бесплодием, мстя за это всему миру, принес бесплодие самой рожалой земле русской, погасил смиренность в сознании самого добродушного народа, оставив за собой тучи болтливых лодырей, не понимающих, что такое труд, что за ценность каждая человеческая жизнь, что за бесценное создание хлебное поле».
Автор прослеживает жизненные пути множества персонажей, но корни зла у него никогда не уходят в дореволюционную пору. Таким он видит мир или, по крайней мере, такую его картину он пожелал оставить будущим поколениям – он ведь не мог не понимать, что пишет роман-завещание. Можно, сказать, боговдохновенный, – в послесловии Астафьев прямо пишет, что «Силы Небесные вдохнули в меня сей замысел и помогают его осуществить». «А что касается правды о войне, то я не зря ведь везде говорил и говорю, писал и пишу – «это моя правда, моя, и ничья больше»».
Главные, однако, его отступления говорят не о войне, а вообще о жизни, которая все-таки больше, чем война. В один абзац он вмещает и гимн тому, что он любит, и проклятие тому, что ненавидит.
«Творя хлебное поле, человек сотворил самого себя.
Век за веком, склонившись над землей, хлебороб вел свою борозду, думал свою думу о земле, о Боге, тем временем воспрянул на земле стыда не знающий дармоед, рядясь в рыцарские доспехи, в религиозные сутаны, в мундиры гвардейцев, прикрываясь то крестом, то дьявольским знаком, дармоед ловчился отнять у крестьянина главное его достояние — хлеб. Какую наглость, какое бесстыдство надо иметь, чтобы отрывать крестьянина от плуга, плевать в руку, дающую хлеб. Крестьянам сказать бы: “Хочешь хлеба — иди и сей”, да замутился их разум, осатанели и они, уйдя вослед за галифастыми пьяными комиссарами от земли в расхристанные банды, к веселой, шебутной жизни, присоединились ко всеобщему равноправному хору бездельников, орущих о мировом пролетарском равенстве и счастье».
Так что же, с концом крестьянской цивилизации исчезнет и человеческое в людях? Надежда у автора, пожалуй, только на Бога и – на женщину: «Есть в ней, в жизни, незыблемо-вечное, и все может сотворить только женщина. Счастье, добро – все, все на свете в ее жертвенности, в ее разумности, приветной нежности».
Александр Мелихов




