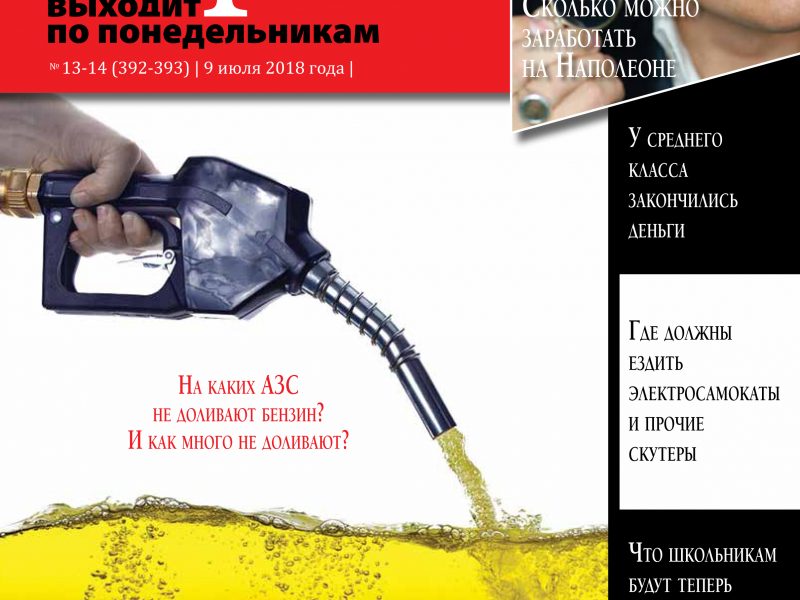В одном издании наткнулась на фразу, катастрофическую в своей нелепости: «Выход романа Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» произвел эффект разорвавшейся бомбы». Христианнейший подход, что и говорить. Критерий успеха: если своим произведением ты не «взорвал бомбу» – зачем и трудиться-то было?..
Попытаюсь по мере сил всех успокоить: Анджей Бубень бомб не взрывал. Вообще его приход в Театр сатиры на Васильевском острове осуществился довольно тихо и сенсациями не сопровождался. Оно бы и хорошо, но скромность в театре давно дискредитирована чередой бездарей-бездельников. А ведь сделано новым худруком уже немало. Во-первых, театр сменил имя – с длинного и недостоверного (ну какая сатира? кто там был сатирик?) на человеческое, питерское, – просто театр на Васильевском. Во-вторых, потихоньку стала меняться не только репертуарная логика (а афиша долгие годы формировалась по известному принципу бузины в огороде и киевского дядьки), но и сам способ работы с текстом. В-третьих, театр обзавелся хитрыми конструкциями, позволяющими сооружать зрительный зал нестандартной величины. В-четвертых, Бубень всерьез занялся собиранием труппы (еще пару-тройку лет назад, несмотря на то, что в Сатире работало несколько отличных артистов, на сцену выходил бог знает кто и делал черт знает что). В-пятых… это театр. Теперь такой театр – есть.
Ну так вот о бомбах… Понятно, что инсценизация нашумевшего романа – затея выгодная с любой точки зрения. Кроме, пожалуй, одной: трудно избежать упреков в конъюнктурности, да к тому же есть опасность разделить с автором романа все его ошибки. Но театру на Васильевском нет нужды оправдываться: Людмила Улицкая – “просто” любимый, постоянный автор этого театра. В прошлом сезоне Бубень поставил ее пьесу “Русское варенье”, в этом – “Даниэля Штайна”. Какие тут вопросы?
Один, главный. “Русское варенье” – плохая пьеса, а “Даниэль Штайн” – скажем так, весьма спорный роман. А спектакли – удачные, причем каждый по-своему.
Квазиинтеллектуальное капустничество на чеховские темы в “Русском варенье” Бубень по мере сил освободил от излишней многозначительности, персонажи перестали быть подмигивающими каламбурами, некоторым из них удалось даже и вовсе стать людьми, причем – на диво обаятельными (Маканя Надежды Живодеровой – бесподобна).
В “Штайне” результаты инсценизации едва ли не более впечатляющие. Многоголосие романа Улицкой (то и дело грозящее перерасти в какофонию), бесконечную череду писем, свидетельств, документов (вымышленных по большей части) и иных подробностей, слишком многочисленных, чтобы оставаться убедительными, Бубень отверг, расчистив место для шести персонажей, личные сюжетные линии которых пересекаются в единой (седьмой) точке – все они так или иначе связаны с Даниэлем Штайном, переводчиком. Теперь каждый “голос из хора” слышен отчетливо. Одиночество, богооставленность, эгоизм, одержимость, надежда на личное спасение, воля к самоосуществлению – все оттенки “самости” обрекают шесть персонажей (помимо поисков Автора и – в некоторых случаях – его обретения) на строго монологическое существование.
На сцене все находятся одновременно – но никто никого не слышит и не видит. В дантовом аду грешники тоже не так чтобы очень активно беседовали друг с другом – нужен был Вергилий и его спутник, чтобы они могли заговорить. Для этого тут и нужен Даниэль Штайн, переводчик. Только он видит и слышит – каждого. Это простой прием, но было бы ошибкой утверждать, что он впрямую продиктован строением романа.
Осуществить упование, дать надежду на то, что есть “тот, кто знает всех” – с такой простодушной наглядностью это можно сделать только в театре. Чем проще прием – тем он больше напоминает о чуде.
Устроить одновременный показ семи моноспектаклей в форме литмонтажа, не поддаться классическому соблазну отечественного театра начать “строить отношения” – это риск. Но простота в спектакле Бубеня – осмысленная. Куда менее насыщенными смыслом и символичными оказываются как раз акцентированные детали, “эмблемы” персонажей: кактус в горшочке, с которым (под портретами вождей мирового пролетариата) живет озлобленная коммунистка Рита Ковач (Наталья Кутасова), тома основоположников марксизма и швейная машинка сиониста Гершона (Михаил Николаев), назойливые парикмахерские ухищрения мещанки Эвы (Татьяна Калашникова), жест самобичевания фанатика Ефима (Артем Цыпин)…
Навязчивый символизм обременяет и сценографическое решение: пол устелен густым слоем серого пепла (нельзя класть под ноги то, что может напомнить о газовых печах), в прологе каждый из героев высвобождается из зловещего “дементорского” балахона…
Эта въедливая настойчивость там, где доказательства не требуются, – издержки не только грубоватого подчас режиссерского решения (каждая деталь должна быть выразительной и “вырастать в тему!” – одна из негласных заповедей отечественной школы). Тут дело еще и в особенностях “советской религиозности”, опасном неофитском энтузиазме, спровоцировавшем ряд упреков в адрес автора романа Людмилы Улицкой, “экуменизм” которой порой оказывался безграничным до абсурда.
Но в спектакле театра на Васильевском многие вопросы оказались сняты. Как ни странно – средствами старого доброго психологического театра. “Показать, как меняется герой от начала к концу спектакля” – классическая задача. Но в этом сюжете и так, как это делает, допустим, потрясающая Елена Мартыненко (Хильда, внучка военного преступника) – означает сыграть преображение личности, радостное путешествие души. “Присвоить” (до деталей) биографию персонажа и буквально “воплотить” его на сцене – означает создать не “правило, но человека”.
Правила, принципы могут быть неверными, даже опасными, их можно осуждать, но человека, убедившего в том, что он – жил, отрицать невозможно. “Я – Даниэль Штайн”, – говорит Дмитрий Воробьев. И с той уникальной степенью достоверности, которая в сегодняшнем питерском театре мало кому так доступна, продолжает рассказывать и про свой побег из оккупированной фашистами Польши, про службу в гестапо, про организацию освобождения еврейского гетто, про обращение в католичество, службу в Израиле, про литургию на иврите…
Про то, что его, Даниэля Штайна, однажды предпочли взять в духовную академию вместо другого юноши: “Его звали Кароль Войтыла”, – уточняет брат Даниэль и с привычной воробьевской сердечностью вглядывается в лица зрителей: может, кто слышал? И от этого взгляда персонажей в спектакле становится куда больше, чем семеро.
Лилия Шитенбург