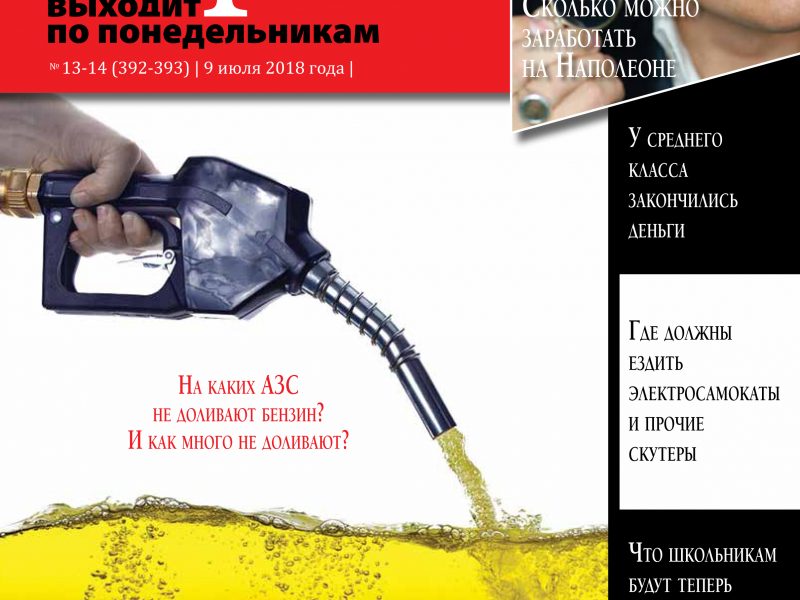Валерия Новодворская – не только радикальнейший из российских политиков, но и специалист по русской литературе. Недавно вышла ее книжка «Поэты и цари». Про поэтов-писателей и про царей, при которых эти писатели жили.
Литературу Новодворская очень любит – она полна для нее героев без страха и рыцарей без упрека. Понятно, что, исследуя литературу, Валерия Ильинична не может забыть и о политике – поэтому оценивает она писателей и их творчество не просто так, а с, условно говоря, антисоветских позиций.
– С чего вы решили написать книгу?
– Книжка это просто небольшая арифметика. Есть такой журнал “Медведь”. Раньше он был совершенно никчемным, а потом его купил Альфред Кох – писатель и нонконформист и реформатор. И сделал из него что-то среднее между “Плейбоем” и “Новым миром”. То, что можно прочесть в книжке, было напечатано в этом журнале. Сначала шла серия про царей. В ней последним “царем” оказался Ленин.
– А Сталин уже не царь?
– Произошло это так потому, что журнал этот не совсем “Новый мир”, а отчасти “Плейбой”, и Сталин для него оказался недостаточно развлекательным. Кроме того, меня крайне мало интересовала семейная жизнь Сталина. Об этом мне было писать просто противно. А дальше пошли такие уже монстры, что оказались в другой книжке – “Прощание славянки”. А уж потом пошли серия “Храм русской литературы”.
– Храм – это вы серьезно или с издевкой?
– Храм русской литературы – как единственное, что произвела Россия и чем мы можем гордиться. Это не имеет отношения ни к государству, ни к президентам, ни к царям. Кроме этого у России ничего нет. История русской литературы в книжке представлена до Катаева включительно. В журнале “Медведь”, где продолжается эта серия, мы добрались до Набокова.
– Вот я прочитала у вас про Тургенева, и возникло у меня ощущение, что он бы хорошо пришелся ко двору у нынешней глянцевой культуры.
– Понятия “глянцевости” тогда не существовало вообще. Тургенев это не глянец. Тургенев это настоящее, хорошо образованное, культурное барство. Я думаю, что Тургенев – один из последних авторов, материально независимых, социально неодержимых и не фанатичных. Потому, что дальше идет освобождение крестьян и те поместья, которые он описывает, стали невозможны. Как и та материальная база, которую эти поместья давали. Надо было выбирать. Блеск и роскошь осин, изыски свободных художников, философов и драматургов покоились на рабовладении.
Вообще очень многие русские изыски – художественные, образовательные – покоились на крепостном праве. А дальше все пошло иначе. Тургенев – один из представителей этого ушедшего мира. По-своему, прекрасного, поэтичного, но, как вы понимаете, с червоточиной. Тургенев сам это понимал, но на прощание попользовался. И это не европейский лоск – в Европе такого быть просто не могло.
– Последним из таких бар был Блок?
– О нет. Блок это совсем другое. Он, конечно, не успел зарабатывать ради куска хлеба, но у него и до “Двенадцати” были стихи, в которых он выражал крайнее недовольство существующим моментом. Он поэтизировал народников, народовольцев. Ну, вся интеллигенция баловалась левыми идеями. Блок исключением здесь не был и очень жестоко за это поплатился.
– А вот Цветаева – она и идеями разрушения не впечатлилась, но и династию Романовых не очень жаловала. То есть сохранила объективность.
– Буквально пальцем в небо. Цветаева единственная из всех оставила “Лебединый стан” – цикл, посвященный Белой армии. Никто лучше нее про это не написал. А дальше, на Западе, она полностью испортила себе художественную биографию, журнальную репутацию и лишила себя возможности зарабатывать совершенно неуместной, буквально фанатичной, я бы сказала, ни на чем не основанной поддержкой Советского Союза. Нет, она как раз не избежала увлечений эпохи. Я уже не говорю о том, чем занимался ее муж. И настроения Ариадны (Ариадна Эфрон, дочь Цветаевой. – Прим. авт)? За счет чего вся семья и погорела, когда неосмотрительно вернулась назад. А как они воспитали Мура (сын Цветаевой, Георгий Эфрон. – Прим. авт.)? А чего хотела для Мура Марина? Другое дело, что в творчестве Цветаевой это, к счастью, проходит стороной. Даже ее таланту были не по плечу эти социологические догмы.
Слава богу, что она не стала про это писать. А то и вспомнить было бы нечего. Есть у нее, правда, несколько достаточно бездарных стихотворений вроде того “Ты беги в СССР…”. Кто действительно избежал увлечений эпохи, так это Набоков. Полностью избежал. Ну, и Анна Ахматова, естественно. Хотя ей тоже приходилось выживать.
– А как вы относитесь к книге “Анти-Ахматова”?
– А я не читала. И у меня нет желания. Я не понимаю, что значит “Анти-Ахматова” и, главное, зачем это.
– Значит, у вас нет ощущения, что близкие к Ахматовой люди создали “миф Ахматовой”? Что Ахматова была превращена в “имиджевый проект”?
– Чей? Провидения? Архангелов? Господа? Чей проект? Безусловно, только этих сфер. Тем более что я рассматриваю как совершенство ее творчество, а не личность. Что касается личности смертных и слабых людей, то они не могут быть совершенны так, как совершенен Отец небесный.
– А почему Набоков смог избежать увлечения революционными идеями?
– Потому что очень острый аналитический ум. Очень острый. Лев Толстой был не беднее Набокова, однако писал совсем иначе. И стал иконой для всех социалистов. Набоковы это старый род. Его дед был участником реформ Александра II. Проводил судебную реформу. Отец – один из столпов кадетской партии. Естественно, наследственный либерализм. Но в восемнадцать лет Набоков с родными бежал из России в Крым. В двадцать лет греческий пароход увез его в Стамбул. И ничего не осталось. Кроме того, что они благоразумно прихватили с собой.
– А либерал застрахован от увлечения идеями всеобщего равенства?
– У Набокова либерализм сочетался с презрением к толпе. Очень большое презрение к толпе.
– Это же неприлично.
– Это обязательно для любого аналитически ориентированного и лишенного комплексов и фанатизма человека. Набоков толпу глубоко презирал и не желал для толпы ничего делать. Поэтому он избег всех ловушек эпохи, которых не избегли ни Бернард Шоу, ни Брехт, ни Ромен Роллан, ни Гауптман. Ни Гамсун, который поверил Гитлеру. Набоков не поверил ни одному, ни другому тирану. Его поведение было абсолютно безупречно. Он никогда даже не рассматривал возможность возвращения в СССР. Он воспевал самиздат, писал воззвания в защиту Буковского. Дрался с ними на своем уровне – выбор оружия был за ним. До своего смертного часа.
В этом смысле он даже Бунина превзошел. Бунин все-таки флажки по карте двигал – отмечал продвижение советской армии. А Набоков не делал и этого. Он вообще в сороковом году, когда началась война и Франция оказалась под угрозой, отплыл в цитадель свободы, которая была гарантирована от тоталитаризма. В Соединенные Штаты. Получил американское гражданство. Так что Набоков это очень сильный пример того, как можно встать выше своей эпохи.
– Вот вы пишете про Пастернака, что он тоже умел игнорировать эпоху…
– Пастернак в своей жизни сделал очень много добрых дел. Во время “дела врачей” он один пришел туда, куда уже никто не ходил, – к жене одного из арестованных. И просидел там целый день. И это при том, что даже родственники боялись их посещать. Ариадне Эфрон, дочери Цветаевой, он помогал до ее смертного часа. Пока она была в лагерях, он все время посылал ей деньги. Он отказался подписать письмо с одобрением расстрелов. Как его жена ни умоляла.
У Пастернака, к сожалению, были минуты слабости. Вот у Гумилева их не было. Он сознательно сделал свой выбор, и они от него ничего не получили. А тот, кто остался жить и пытался как-то выжить, должен был идти на небольшие компромиссы. История с пастернаковской Нобелевской премией – это компромисс. Хотя он готов был уехать. Жена не была готова.
– Думаете, справедливо Нобелевскую премию дали Бунину, а не Мережковскому?
– У них тогда был выбор – дать премию Мережковскому или Бунину. Мережковский, конечно, глубже в смысле философии, но искусство – это не что, а как. А так как в Бунине больше красоты, лирики и художественности, то они дали премию Бунину. Хотя в смысле антисоветизма Мережковский Бунина превосходил! От него с Гиппиус даже эмиграция отвернулась, подозревая бог знает в чем. Даже в сотрудничестве с нацистами. Но они этого не делали. Только лишь не сочувствовали советской армии.
– То есть и Бунин, и Мережковский – антисоветчики. Верно, и Пастернаку Нобелевскую премию дали за внутреннее несогласие с советским режимом.
– Ерунда полнейшая. Неужели это все так быстро забылось? Шестидесятый год, это ведь было сравнительно недавно. Насколько мне известно, никто в Нобелевском комитете никогда не был ориентирован на скандал. Они давали награды за большие литературные заслуги. И были в этом смысле вне политики. Даже слишком вне – дали Нобелевскую премию Шолохову. Хотя в моральном отношении никакой премии он не стоил. А наградили его за “Тихий Дон” – действительно великую вещь.
– Так вам нравится “Доктор Живаго”?
– “Доктор Живаго” – это не лучшая вещь Пастернака, и премию ему дали за стихи и поэмы, лучше которых и представить себе нельзя. И дали за дело. И Бродскому дали за совокупность великолепных совершенно стихов и поэм.
– Все-таки разве это справедливо – давать Нобелевскую премию за нелучший роман?
– В “Докторе Живаго” есть прекрасные, поэтические страницы. Вообще, видно, что книга написана поэтом. Надо только уметь разглядеть те места, которые Пастернак вынужден был исказить, чтобы книжку напечатали здесь. Он же рассчитывал, что ее напечатают здесь. Там есть места, которые очевидно даны для цензуры. Поэтому, когда был поставлен телевизионный фильм, умный режиссер их просто выкинул.
– В середине XIX века шли т.н. литераторские войны. Некрасов враждовал с Гончаровым. Это вам не напоминает борьбу с инакомыслием?
– Я не думаю, что Некрасов боролся с инакомыслием. Он издавал хороший журнал. А с Гончаровым была взаимная нелюбовь. Тем более что Гончаров нашел себе редактора в другом журнале. Там “самиздата” не было. И “тамиздата” в принципе тоже. До этого при кровавом царском режиме еще не дошло. Это будет потом – при доброй и ласковой советской власти.
– Но Герцену-то пришлось уехать?
– А Герцен – публицист. Герцен чисто политическая фигура. Политические памфлеты пошли именно туда. Это не беллетристика. С беллетристикой царская власть не боролась. А вот по отношению к политическим памфлетам царская власть была недостаточно вольнодумной и широкомыслящей. Хотя вреда ей от них было как раз немного. Они просто еще не научились открывать клапан и выпускать пар. Потом Николай I был прообразом Путина. В идеологическом и политическом отношении это совершенно идентичные фигуры. И я полагаю, что финал будет одинаков. Потому что автократическая деятельность к другим результатам привести не может.
– А вот Пушкин к Николаю I вроде неплохо относился?
– Пушкин к нему очень плохо относился. Ему было просто некуда деться, и он изо всех сил пытался заставить себя полюбить Николая. У Пушкина есть совершенно не свойственные ему стихи, которые просто видно, для чего написаны. Так же как у Пастернака. “Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю”. Всем же все понятно. И с “Полтавой” тоже все понятно. У него одно стихотворение противоречит другому – “Медный всадник” той же “Полтаве”.
А там, где он себе дает волю… Где у нас там десятая глава из “Евгения Онегина”? Да, у Пушкина, конечно, не было идеи полного освобождения от имперских ценностей. Он в этом смысле менее прогрессивен, чем Лермонтов, но и того, что вы говорите, тоже не было. Не надо все принимать за чистую монету.
– Вы пишете о том, как скучно детям в той части литературного храма, где располагается Толстой. А как надо преподавать литературу в школе, чтобы не было скучно?
– Не знаю. Надо взять большую литературу, нашу или зарубежную. И уж, конечно, не то, что преподавали в советской школе. А по-настоящему большую литературу – Чехова, Достоевского, Тургенева, Гоголя, Толстого. Прибавить немного Гаршина, Леонида Андреева. Все, что тянет в литературном отношении на Храм, я в него встраиваю. Потому что действительно это части храма русской литературы. Это гордость культуры, гордость страны.
– Все это дети точно не прочитают. Значит, у Достоевского надо взять “Преступление и наказание”…
– Я бы сказала, что, во-первых, Достоевского надо взять целиком и никак не ограничиваться “Преступлением и наказанием”. Здесь обязательно нужны “Бесы”, “Братья Карамазовы”. Обязателен “Сон смешного человека”, “Кроткая”. Именно эти маленькие вещи. Наконец, “Идиот”.
– А “Бедные люди”?
– Нет, вот без этого можно как раз обойтись. Как и без “Униженных и оскорбленных”. А “Преступление и наказание” входит в такой мировоззренческий минимум, который содержит все самое основное, что человек должен узнать о жизни. Человек должен прочитать Достоевского от корки до корки.
– А я вот в школе Достоевского не любила.
– У вас были плохие преподаватели, плохие учебники.
– Ваша книга может стать хорошим учебником?
– Конечно, может. Здесь вообще учебник не нужен. Здесь нужна хрестоматия и такой… аналитический срез. Не надо учить, надо демонстрировать точку зрения. Так, чтобы после этого читать захотелось. Но как вы понимаете, в качестве учебника эту книжку не возьмут.
– То есть вы своими текстами о литературе пытаетесь просветить плохо наученное советской школой общество.
– Конечно, в какой-то степени это попытка исправить положение. Несчастные гении не виноваты в том, что в рамках школьной программы с ними так поступили. Оклеветали, подвергли надругательству и сделали противными и неинтересными настолько, что человек шарахается от имени Толстого. А ночью ему кошмары снятся. Советские школы вообще надо было бы закрыть. Да и теперешние, если туда будут внедрены нынешние учебники по основам православия.