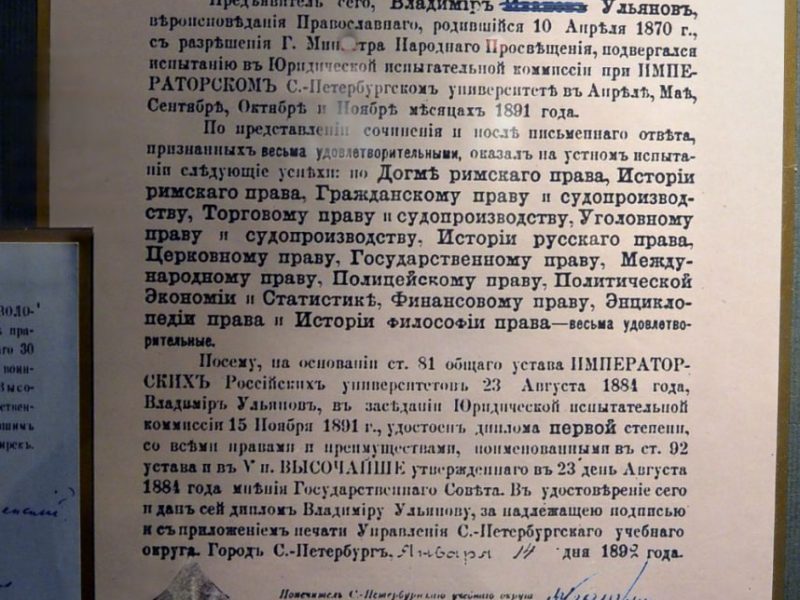Любите ли вы Чехова, как люблю его я?
А всё ли, написанное Чеховым, вы читали, как читала я?
Я имею в виду вообще всё, включая опубликованные письма, записки – всё, что сегодня так или иначе включено в наследие Антона Павловича. И всё, пересказанное его близкими, вплоть до последних слов: «Ich sterbe. Я умираю. Давно я не пил шампанского».
А если вы не готовы, как я, не заглядывая в Википедию, сказать, где был Чехов и что писал в таком-то месяце такого-то года, то давайте договоримся: вы не будете мне рассказывать, почему он называл себя «малороссом» и избавите меня от своих выводов о Чехове на основании чего-то случайно прочтённого в Фейсбуке.
Но если хотите узнать, отчего и зачем появился в его речах «малоросс», то я могу вам кое-что объяснить. Кое-что важное. О нём и не только.
Не будем отдельно останавливаться на том, что Чехов – русский писатель, потому что писал по-русски. Самоидентификация человека обычно связана с языком, но далеко не всегда. Тем более возможны варианты, когда основной язык писателя «имперский», утвердившийся в роли языка общения для народов разного этнического происхождения и разных традиционных культур: из того, что автор пишет на испанском, английском или русском, никаких выводов о его национальной самоидентификации сделать нельзя.
Итак, первый баян, кочующий по Фейсбуку. Якобы, «как известно», Чехов где-то писал, что родился в «украинском городе Таганроге». Мне такое неизвестно. Никогда таких его слов нигде не встречала и, попытавшись найти, не нашла. Не удивительно: Таганрог при жизни Чехова всеми описывается как город греческий. При том, что жили там большими общинами и евреи, и итальянцы, и поляки, и немцы, и армяне – кого там только не было. Русские и украинцы тоже были, разумеется. Только вот этноним «украинцы» в последней трети 19 века применялся обычно не к народу, а к «политическим украинцам» – националистам, носителям соответствующей идеологии. Потому в текстах Чехова это слово встречается крайне редко. Обычно, имея в виду народность, он пишет о «малороссах» или «хохлах». Никакой негативной коннотации в его время у этих слов нет. Разница, важная для литературных контекстов, в словоупотреблении: «малороссы» – это в нашем представлении – канцелярит. Язык документов. «Хохлы» – просторечие.
Второй фейк – что Чехов в переписных листах имперской переписи населения 1897 года записал себя малороссом. Этого не могло быть просто потому, что не было такой графы, куда можно было это слово вписать. Хотя, замечу, что Чехов скорее записался бы «малороссом», чем «великороссом». Почему – это надо знать и понимать Чехова. Но об это позже.
Третий баян – не выдумка, а выдёргивание слов из контекста. Чехов-де сам называл себя хохлом. Это правда. Много раз в письмах так себя называл. Но, видите ли, я-то знаю в каких письмах, кому, когда, по каким поводам. И могу, открыв источники, привести полные цитаты.
Извольте!
«Я хохол и страшно ленив поэтому», – пишет Чехов, оправдываясь за промедление с текстом. Другому адресату: «В моих жилах течёт ленивая хохлатская кровь». Ещё: «Ведь я хохол, а эта нация ленива до неистовства». И ещё с полсотни таких же «объяснений» собственной якобы лени в письмах разным людям.
Не нравится? Нынче на Фейсбуке его бы забанили. А нам придётся как бы объяснять, почему Чехов так шутил. «Глубоко весёлый человек» по характеристике Короленко, «едко-ироничный» по другим, лет сто с гаком не доживший до времён, когда шутки такого рода стали пугать робких обывателей. Когда человек, работавший с 16-ти лет, никогда не оставлявший частную врачебную практику, боровшийся с эпидемией холеры, писавший десятки страниц в день, упахавшийся до открытой стадии туберкулёза на Сахалине называет себя «ленивым хохлом» – это он так шутит. О себе. Не желая объяснять требовательным издателям, почему текст не готов. Не желая всерьёз оправдываться страшной загруженностью и усталостью. Не описывая каждому подробно, чем занят его рабочий день с утра до ночи. Не жалуясь на болезнь – он никогда не жаловался, это ниже его достоинства. Отшутился «ленивым хохлом», признавая свою вину – и достаточно. Для умных.
Действительно ли он считал себя хохлом, то есть – украинцем в современном понимании, тоже не вопрос без ответа. На то есть другие цитаты из его же писем. Например: «Пьеса Потапенко прошла со средним успехом. В пьесе этой есть кое-что, но это кое-что загромождено всякими нелепостями чисто внешнего свойства (консилиум врачей неправдоподобен до смешного) и изречениями в шекспировском вкусе. Хохлы упрямый народ; им кажется великолепным всё то, что они изрекают, и свои хохлацкие великие истины они ставят так высоко, что жертвуют им не только художественной правдой, но даже здравым смыслом». Как видим, тут от «упрямого народа» Чехов отчётливо дистанцируется. «Им кажется». Не ему. Но не торопитесь с выводами: цитату я подобрала с двойным дном.
«Упрямый хохол» в этой цитате – Игнатий Николаевич Потапенко, «заклятый друг» Чехова. Любовник Лики Мизиновой и отец её ребёнка. Прототип Тригорина из «Чайки». Очень непростые отношения были между Чеховым и Потапенко, но, между прочим, они не рассорились насмерть, даже напротив. Тут сюжет для очень большого рассказа, но подробности пропустим. Кроме одной. Потапенко был евреем. Точнее, сыном выкреста. Что Чехову, конечно, было известно (он его ещё и таким словом припечатывал, которое нынче из Гоголя вычёркивают), и потому украинцев вообще не касается. Как и этнического происхождения Потапенко.
Дело в том, что говоря о «народностях», «нациях», Чехов отсылает к архетипам. Ничего личного, как говорится. Это символические образы. Наподобие «бравого солдата» или «злой мачехи», не предполагающие нудных возражений, что не все солдаты бравые, а мачехи бывают лучше родных матерей. «Роковые еврейки», «упрямые и ленивые хохлы», «педантичные немцы» и прочие ходячие литературные образы-штампы вошли в тексты раннего Чехова прямо из литературной традиции: определишь так персонажа – и можно многое не уточнять. Читатель в курсе, ему ещё Шекспир, Пушкин и иже с ними напели. А были и семейные предубеждения, от которых никто заведомо не свободен. И личный опыт юношеских увлечений как бы ложился в строку (нехорошо вышло с Дуней Эфрос). Но получив за Сусанну («Тина») «антисемита», Чехов таких опытов больше не повторял: его писательский дар того и не требовал. Анна-Сарра в «Иванове» – человек, более всех окружающих вызывающий сочувствие. Пугающий образ Соломона в «Степи» – это уже совсем о другом, предвещающем пожар социального безумия. И если тут найти нелюбовь автора к евреям, или хоть вообще ксенофобию, то уж тогда покажите нам, в ком это из героев он русских любит.
Бесконечная вереница чеховских персонажей – чистый парад уродов. В абсурдности их поведения нет гротеска, сплошной реализм беспросветной, дряной глупости. Они порой настолько нелепы, что и злости на них не хватает, остаётся пожалеть. Иванов, муж несчастной Анны-Сарры – тот ещё русский красавец с характерной фамилией: натура хоть «честная и прямая», но слабая, поверхностная, с рыхлыми нервами, пустая до убийственной скуки. И подлости у него выходят сами собой, без воли. И самоубийство – лишь отказ от усилий. «Иванова» Чехов написал в 27 лет. Вот этого «русского» он выдавливал из себя, осознав рабскую, подлую природу всякой бездарности, пошлости и никчёмности.
Нет, он не говорил этого о себе. «Выдавливать по капле раба» – это тоже из письма (Суворину), в котором излагается сюжет типичного возрастания провинциального юноши из бедной мещанской семьи. И русским Чехов себя нигде не называет. Потому что говорить и писать о себе, да ещё всерьёз как-то себя определять – не в его манере. Ссылался на «биографофобию» и отшучивался: провинциал, мол, родился в заштатном городишке у «плохонького моря». Всё, что о свои делах – «мелочь», «безделица». Свою поездку на Сахалин, несомненно подвижническую, объясняет так: «Захотелось вычеркнуть из жизни год или полтора». Как вы представляете себе в его исполнении: «Я – великоросс»? Первая часть слова застряла бы у Чехова в горле.
Невыносимее всего для Чехова – пошлость самодовольства. Ему отвратительны позы, громкие фразы, пафос, всё, преисполненное значительности, идейности, претенциозности («У меня нет никаких идей и убеждений»). С каждым годом всё больше в его поведении было сдержанности, что многим казалось равнодушием, «холодной кровью», отстранённости. Гражданское дело – это перепись, строительство школ, больниц, дорог, работа в холерном лазарете – всё молча. К общественным и национальным движениям, партиям, публичным выступлениям – скептическое отношение. На назойливые расспросы, чем по его мнению кончится война между греками и турками, отвечал: «Полагаю, миром». А на вопрос, любит ли он греков: «Я люблю мармелад». По поводу литературной дискуссии о «важнейших вопросах русской жизни» сказал Ладыженскому (с его слов): «Я же ничего сегодня не отрицал в нашем литературном споре. Только не надо нарочно сочинять стихи про дурного городового! Больше ничего».
«Прожить тихо, не рвать занавес в клочья» – поведенческая норма для приличного человека. Как и позиция по делу Дрейфуса (он её, как водится, не афишировал, а обвинители в «антисемитизме» не заметили). Как и отказ от почётного звания академика после аннулирования принятия в АН Горького.
Отсюда чеховская точность слова. Ни романов, ни манифестов, ни политических деклараций, ни самоопределений – ничего лишнего. «Скажут: а политика? интересы государства? Но большие писатели и художники должны заниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно обороняться от нее».
На похоронах попросил никаких речей не говорить.
Репортёр «Русских ведомостей» возмущался, что тело великого русского писателя прибыло на родину в вагоне с надписью «Для перевозки свежих устриц». Глупости. Чехову бы понравилось. Это он словно сам после шампанского дописал.
Марина Шаповалова